Берлин обрушился на меня прежде всего уймой зрительных
впечатлений - масса цветных огней, неподвижных и бегающих, вызывала тошноту
и головную боль. Особенно неприятны были почему-то зеленый и фиолетовый
цвета.

Берлин. Фото начала 30-х годов
Скоро я, однако, несколько адаптировалась, да и мама перестала
водить меня по городу по вечерам.
На первые дни Генкин почему-то поселил нас
не в торгпредстве, а в маленьком частном пансионе, который содержала еврейская
семья, эмигранты из России. Это были милые, интеллигентные люди. В России
они были меньшевиками, считали страну не готовой к революции, а саму революцию
преждевременной. Это не мешало им живо интересоваться делами России, и
они с мамой проводили целые вечера в бурных спорах. Споры были длинные
и сложные, но главное в них я либо поняла, либо просто запомнила, спустила,
так сказать, в долговременную память - они резко осуждали коллективизацию
и
утверждали, что становление «крестьянина-хозяина» в России только началось
с освобождением крестьян, и не уничтожать его надо, а вовсе наоборот. «Только
дали землю, опять забирают», - говорили эти люди. Мама кипятилась, рассказывала
о кулаках, об их зверствах. «Правильно, - отвечали те, - крестьянство защищается».
«Мелкобуржуазная стихия!» - восклицала мама.
А дальше они заговорили о самом святом - о
товарище Сталине. «Как вы могли допустить, чтобы во главе партии стал этот
рыжий, рябой иезуит?» - спрашивал хозяин. Я сразу поняла - все неправда!
Я прекрасно знала - Сталин не рыжий и не рябой, я видела столько его портретов.
И почему иезуит? Я знала уже, кто такие иезуиты, к этому времени была прочитала
и почти что выучена наизусть прекрасная книжка о Джордано Бруно - «Псы
господни» Заяицкого. Иезуиты - попы, а Сталин всю жизнь боролся с религией.
Я отважилась поделиться своими сведениями со взрослыми. Хозяин ответил
мне
очень серьезно, без улыбки: «Может быть, на портретах он и черный,
не знаю, а в жизни рыжий, и лицо оспой изрыто. Я его хорошо по туруханской
ссылке знаю. Впрочем, хорошо его никто не знал, он от нас за высоким забором
прятался. Людей боялся, особенно новых. Обычно, когда привозили нового
ссыльного, вся наша колония сбегалась, а он не приходил никогда. У меня
даже мелькала мысль - не провокатор ли? Боится, что опознают?»
Конечно, он говорил все это не мне, мой вопрос был
только предлогом для потока подобных воспоминаний.
Я мысленно вернулась к этому разговору через двадцать
с лишним лет, еще при жизни Сталина, в самом начале пятидесятых годов.
Тогда в мои руки попала старая маленькая книжечка в бумажной обложке -
«Воспоминания о туруханской ссылке», изданные Обществом политкаторжан в
1922 году. Там был рассказ о том, как ссыльные ждали приезда Кобы (одна
из кличек Сталина), как он приехал и отказался встретиться с ссыльными
товарищами по партии. Он поселился в доме у самого богатого хозяина в поселке.
Дом этот был обнесен очень высоким, плотно сколоченным непроницаемым забором.
Все лето Сталин ходил с хозяином на охоту, на рыбалку, надолго исчезая
из поселка. Объяснял он эти отлучки тем, что делает заготовки на зиму.
Провизии он действительно заготовил много, но никогда не делился ею с товарищами,
даже с теми, кто умирал с голоду, даже со сгоравшим от чахотки Свердловым,
который был душой колонии. Запомнился эпизод: в колонию доставили новый
номер «Искры» со статьей Владимира Ильича. Сталину предложили сделать по
этой статье доклад на большом тайном сборе ссыльных, съехавшихся на одну
ночь из разных поселений. Он отказался, заявив, что не может размениваться
на мелочи, должен беречь силы для грядущих революционных боев...
Финал истории туруханской ссылки я узнала
много позже, уже
при Хрущеве, когда прошла реабилитация и вернулся из лагеря Мирон Григорьевич
Биншток, году в пятьдесят седьмом. Мы в очередной раз заговорили о Сталине,
и я вспомнила книжечку о туруханской ссылке. Оказалось, что автора этих
воспоминаний Мирон Григорьевич встретил в лагере, и тот рассказал ему следующую
историю.
Однажды, не то в конце тридцать шестого или
в самом начале тридцать седьмого, он, как обычно, зашел в Общество политкаторжан
и поразился совершенно необычному приему - с ним не разговаривали, даже
не здоровались. Сначала он подумал, что это шутка, но вскоре понял, что
нет. Тогда он подошел к одному из товарищей, взял его буквально за грудки
и потребовал объяснить, что случилось. Вместо ответа тот молча протянул
ему номер «Правды» с большой статьей о пребывании Сталина в туруханской
ссылке. Все
факты в статье были вывернуты наизнанку, Сталин оказывался чутким товарищем,
готовым поделиться последним куском хлеба. Все, что делал в колонии ссыльных
Свердлов, приписывалось Сталину. А подпись стояла... его! Это было потрясающе
- месяц назад его вызывали в ЦК и предлагали подписать что-то в этом роде,
но он отказался наотрез. Спустя еще месяц его арестовали.
Да, Сталин действительно боялся своего прошлого.
И его свидетелей.
Мама с пеной у рта доказывала, что Сталин
пользуется уважением и любовью не только основной части партии, но и всего
народа, что он твердо ведет страну ленинским курсом.
Когда мы с мамой вышли на улицу, она с ужасом
сказала: «Боже мой, так переродиться! Так омещаниться! А ведь были настоящие
революционеры, активные эсдеки, марксисты... Теперь я понимаю, что могло
произойти с Самуилом...» (о Самуиле, младшем, любимом брате, застрявшем
в Бессарабии, кто-то сказал маме, что он омещанился, и мама очень это переживала).
Мама взяла реванш на следующий день, когда
речь зашла о снабжении продуктами и промтоварами. Мама с вдохновением перечисляла
все, что свободно лежит на прилавках наших магазинов, называла цены. Я
слушала с недоумением: половину из того, что называла мама, я никогда в
глаза не видела, о некотором я не слышала никогда, не знала, что это такое.
Но и то, что было мне хорошо знакомо, в магазинах практически отсутствовало,
а появлялось либо в так называемых распределителях, либо на базаре. Я прекрасно
знала это и потому, что часто ходила в магазин, да и просто так,
из повседневной жизни семьи. Курица, например, появлялась в нашем доме
в двух случаях - по большим праздникам и когда кто-нибудь болел. В этих
случаях на базар отправлялся папа - во-первых, он любил базар, а мама его
терпеть не могла, и во-вторых, он умел торговаться. Он приносил четверть
птицы (обязательно заднюю, с ножкой), и мама варила бульон. Ножка доставалась
больному, а остальное делилось на всех. При этом мама неизменно повторяла
одну и ту же старую еврейскую шутку: «У нас один петух дает семь горшков
бульона». Мама же вдохновенно повествовала о том, что куры лежат в магазинах
навалом и прямо-таки за бесценок. Она врала! Моя мама, которая всегда ненавидела
всякое вранье, врала!
Когда мы снова остались одни, мама сказала
с торжеством: «Ловко я, а? И цены все называла в два раза ниже, и вообще...
Стану я
всяким перерожденцам давать повод для злорадства!» Мне все
стало ясно: это была не ложь, а конспирация!
О конспирации мама рассказывала мне очень
много и всегда с таким же торжествующим выражением лица, таким же вдохновенным
голосом: как обманули полицию, как провели шпика. Теперь маме надо было
провести перерожденцев, и она это сделала. Молодец мама!
У «перерожденцев» нам жилось очень хорошо.
Видимо понимая, что мы стеснены в деньгах, они кормили нас вкусно и очень
дешево. Особенно запомнились необычайно красивые розочки из масла, сделанные,
наверно, какой-то формочкой, и «мармелад», что-то вроде нынешнего конфитюра.
Кстати, у них я впервые увидела холодильник - у нас холодильников еще и
в помине не было.
Несмотря на все удобства пансиона, мама, утомленная
ежедневными политическими баталиями, решила перебраться в торгпредство.
С этого дня ели мы как попало. Иногда заходили в кафе и съедали по паре
сосисок, но в основном питались бананами и апельсинами. Апельсины я до
этого, кажется, видела (запомнились похожими на мандарины), о бананах же
я только читала. Берлин же был просто завален этими экзотическими фруктами.
Продавались они за бесценок, и вдоль тротуаров сплошным слоем лежали оранжевые
и желтые шкурки.
Я пристрастилась к бананам, могла есть их
непрерывно, и другая пища мне была не нужна.
Но я еще ничего не сказала о том главном,
для чего мы приехали, - о глазных протезах. Попасть к Мюллеру оказалось
не так-то просто, потому что он имел, оказывается, свою многочисленную
и постоянную клиентуру. Но письмо Филатова оказало магическое действие,
и двери фирмы открылись перед нами.
В приемной Мюллера сидели люди со всех концов
света - из Франции, Англии, Америки. Они оживленно болтали, свободно общались
между собой, в основном по-немецки. Очень хорошенькая англичанка с упоением
рассказывала о своих светских развлечениях и победах, американка - о путешествиях.
Но что было самое главное - непонятно было, зачем эти люди собрались здесь.
Вид у них был абсолютно нормальный, они ничем не напоминали тех страшных
людей с выпученными или запавшими стеклянными глазами, которых полно было
в наших глазных больницах.
Мама успокоилась, лицо ее прояснилось, глаза
засияли. Но вскоре
выяснилось, что все эти люди ездят к Мюллеру ежегодно, потому что протезы
портятся и одним можно пользоваться только один год. Кроме того, есть смысл
делать несколько разных на каждый день - пояснила хорошенькая англичанка.
-Один для утра, другой для дня, третий для вечернего освещения - с разными
зрачками, разного оттенка. Мама опять приуныла - она прекрасно понимала,
что мы не вернемся сюда ни через год, ни через десять лет, а скорее
всего никогда. А денег едва хватало на два протеза. Это была катастрофа.
Тогда мама решилась на отчаянный шаг - попросила денег у своего брата Соломона,
который когда-то бежал с каторги в Америку и теперь жил в Нью-Йорке. Соломон
откликнулся сразу же, но денег прислал очень мало.
Он писал, что работает зубным врачом и зарабатывает
хорошо, но
свободных денег у него нет. Дело в том, что он член американской компартии,
а партия еще очень молода и нуждается в финансовой поддержке. Поэтому он,
Соломон, отдает почти всю свою зарплату
на нужды партии. Мама была горда и счастлива политической ориентацией
Соломона, но денег пришлось просить о «омещанившегося» Самуила. Самуил
прислал много, значительно больше, чем просила мама. Его письмо было удивительно
теплым.
Он сожалел о том, что мама написала так поздно, и он не успевает приехать
повидаться, а кто знает, будет ли еще когда-нибудь в их жизни такая возможность.
Мама долго плакала над его письмом.
Протезы для меня делал Мюллер-сын. Художник
по образованию он и работал, как настоящий художник. Каждый протез, каждый
отдельный экземпляр писал с натуры и делал сразу же от начала до конца.
Ни разу я не видела, чтобы он скопировал даже свою собственную удачу. Высокий,
красивый, удивительно обаятельный, он работал с увлечением, и следить за
ним было очень интересно.
В коробочке перед ним лежало множество белых
стеклянных шариков с маленькой трубочкой внизу. Мюллер брал один из этих
шариков, насаживал на какой-то штырек и начинал рисовать на нем. Потом
он как-то обрабатывал поверхность шарика, по-моему, обжигал и подносил
к моему глазу. В большинстве случаев шарик после этого летел в корзину
- кррак! и разлетался на куски, а Мюллер брал новый. Но когда результат
его устраивал, он мгновенно отрезал нижнюю половину шарика и придавал оставшемуся
нужную форму. Но и готовый протез могла постигнуть та же участь, что и
шарик. В итоге почти месячного упорного труда Мюллер сделал мне двенадцать
протезов и обеспечил мне нормальное человеческое существование на много
лет вперед - я носила эти протезы двадцать лет. Лишь в начале 50-х в Москве
на Ленинском проспекте появилась маленькая мастерская индивидуального протезирования.
Молоденькая мастерица Муся не стала долго раздумывать и тратить лишнее
время
и силы, она попросила у меня готовый протез и сделала точно такой же.
С тех пор вот уже тридцать лет она добросовестно тиражирует мюллеровский
образец.
На сеансах у Мюллера я позировала часа по
два, но уставала так, что никуда больше не хотела ходить. Однако наше пребывание
в Берлине близилось к концу, и мама активизировалась. Прежде всего она
повела меня в знаменитый берлинский Тиргартен - зоосад. Конечно, он был
великолепен, я в жизни не видела вместе столько экзотических зверей, меня
даже сфотографировали с настоящим живым тигренком и с живым львенком. Правда,
куда делись эти снимки, я не имею представления.
В самый разгар удовольствия к нам подошел
толстый добродушный немец и заговорил на ломаном русском языке. Он предложил
поводить нас по зоопарку, показать все самое интересное. Потом спросил,
откуда мы, и узнав, что с Украины, радостно воскликнул: «О, я там бил!»
«Что же вы там делали?» -
поинтересовалась мама. «Бальшефикоф бил!» Мама что-то пробормотала,
схватила меня за руку и быстро увела из Тиргартена.
Я устала от постоянной скованности, от боязни
сделать что-то не
так, от того, что кругом чужие. Мне хотелось домой, к своим. И вот
однажды я увидела, что по мостовой движется колонна молодых людей в спортивных
костюмах. Они шли весело, красиво и несли красное знамя. С криком: «Комсомольцы!
Мама, комсомольцы!» я ринулась к ним навстречу. Но мама резко рванула меня
за руку, зажала мне рот рукой и потащила в подворотню. Она всем телом прижала
меня к стене и держала довольно долго. Сердце ее билось
так, что мне было слышно. Я почувствовала, что мама испугалась не на
шутку, но не могла понять в чем дело. Наконец, немного отдышавшись, мама
объяснила: «Это не комсомольцы, а фашисты - самые страшные наши враги».
«Нет, - возразила я, - они же с красным флагом!» Я еще не знала, что такое
свастика, и потому не увидела ее на красном знамени фашистов.
У нас оставалось немного денег, и мы стали
заходить в магазины. Мама купила швейцарские часы для папы, костюмчик для
Лени, замечательное платье для меня. Оно было прямое, с воротником-стоечкой,
с пояском. Это была чистая шерсть бирюзового цвета и с яркой вышивкой по
воротничку, вдоль
подола и на кармане. По-моему, это была самая красивая вещь, какая
была у меня не только в детстве, но и в юности - я носила ее сначала как
платье, потом как кофту. В этой кофте я была на выпускном вечере, когда
кончала школу. Еще мама купила мне куклу, хотя я в куклы вовсе не играла.
Я подозреваю, что эта кукла просто поразила мамино воображение, потому
что у нас таких в то время никто не видывал. Кукла была красавица, ее можно
было мыть, у нее были прямо-таки настоящие волосы, которые можно было причесывать.
Но главное - она закрывала и открывала глаза и говорила «мама». Жизнь
этой куклы оказалась куда менее долговечной, чем жизнь
платья.
Мама редко давала мне эту куклу, только когда
сама бывала дома
и могла за мной присмотреть. Видно, боялась моих
экспериментаторских наклонностей. И не зря - я мечтала только об одном
- понять, как кукла может закрывать глаза и говорить. Пока кукла была цела,
понять это было невозможно...
Летом к нам в Одессу приехала двоюродная сестра
Лида. Я подговорила ее попросить у мамы разрешения выйти погулять с куклой.
Как только мы отошли достаточно далеко от окон, точнее, зашли в подворотню,
я попросила у Лиды куклу и со всего размаха стукнула ее головой об стену.
Верхняя часть головы разлетелась вдребезги, обнажив все то, что я хотела
увидеть. Лида горько плакала и причитала: «Что я скажу Вере?» «Не плачь,
я все скажу сама», - успокаивала я.
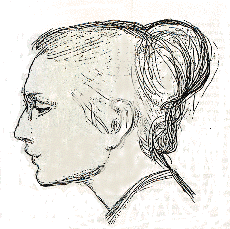
Шура Венгер. Рисунок Эллы Биншток, 1960 г.
Мама хотела купить мне к новому платью еще
и туфельки, и вечером в субботу мы зашли в маленький магазинчик неподалеку
от фирмы Мюллера. Молоденькая, очень хорошенькая голубоглазая продавщица
сказала, что они уже закрываются - оказалось, что в субботу у них везде
укороченный рабочий день, а мы об этом и не подозревали. Мы извинились
и повернулись, чтобы уйти. В это время из внутренней двери вышел мужчина.
Он подошел к продавщице и что-то сказал ей негромко, но резко и та догнала
нас в дверях и стала умолять вернуться. Потом сказала еще что-то, тихо
и быстро. Мама перевела: если мы не вернемся и не купим что-нибудь,
девушка-продавщица останется без работы - хозяин магазина уволит ее.
В глазах девушки стояли слезы. Я знала, как плохо быть безработным, об
этом было написано в «Рассказе о великом плане». Мы вернулись и она дрожащими
руками, все еще со слезами на глазах, начала доставать какие-то коробки,
а я во все глаза смотрела на хозяина. Шутка ли - прямо рядом со мной стоял
и при этом улыбался мне настоящий капиталист! Он совсем не был похож на
карикатуры, которые я видела во множестве на наших плакатах и на картинках
в детских книжках, - совсем не толстый, даже красивый...
Мы взяли первые туфли, которые были мне впору,
и поспешно вышли из магазина.
Конец нашего пребывания в Берлине пришелся
на Первомайские праздники. Наши - в торгпредстве - говорили, что немецкая
компартия готовит мощную демонстрацию, но идти смотреть на нее не рекомендуется,
можно ждать любых провокаций. А пойти хотелось - не только мне, но и маме.
И мы решили идти. «В конце концов, мы же не сотрудники торгпредства, -
сказала мама. - Нам можно». Когда мы уже совсем собрались, Генкин не выдержал.
«Я вас провожу, - сказал он. - Подождите». Через пару минут он вышел к
нам в пальто и котелке, типичный берлинский бюргер.
Я до сих пор благодарна ему и маме за то,
что видела эту демонстрацию, единственную в моей жизни настоящую рабочую
демонстрацию. Отнюдь не праздничную, не радостную, суровую. В темной рабочей
одежде, без тени улыбки на лицах, как в бою, готовые на все, и время от
времени выбрасывали вверх сжатые кулаки: «Рот фронт!» Шли тысячи и тысячи.
А вдоль тротуаров, прижавшись спинами к фасадам домов, так же готовая ко
всему, стояла
полиция. Она заполняла не только тротуары, но и просветы между домами
и переулками. В переулках тесным строем стояли грузовики с полицией. И
несмотря на это, люди толпились на тротуарах, выражали сочувствие демонстрантам,
приветствовали их лозунги, покупали у старого рабочего значки с портретом
Ленина на красной ленточке. Мы с мамой тоже купили два таких значка. Мама
не удержалась от соблазна и сказала ему, что мы советские. Он счастливо
заулыбался - «О, партайгеноссе!» - и пояснил, что он старый коммунист,
а деньги от продажи значков пойдут в кассу партии.
Приколоть значок к платью мама разрешила мне
только дома, боялась, что может остановить полиция. Но все обошлось благополучно.
Дома, в торгпредстве, все были счастливо возбуждены, взволнованы грандиозностью
демонстрации - несмотря на запрет, искушению поддались далеко не мы одни.
Многие сотрудники посольства и торгпредства
жили в Берлине уже не один год и уверяли, что такого не было еще никогда.
«Назревает революция», - с надеждой говорили наши.
А на следующий день, 2-го мая, праздновали
фашисты. Утром мимо нашего здания начали пролетать мотоциклы с маленькими
красными флажками со свастикой. Мотоциклисты пролетали один за другим и
стреляли по нашим окнам. Все население дома собралось в тесном узком коридоре
- это было единственное место, где не было окон. Все молчали, даже дети.
Прислушивались к звону стекла и свисту пуль.
Обстрел длился долго - либо их было очень
много, либо они делали где-то круг и возвращались. Когда мы наконец вернулись
в свою комнату, в окне были дырочки, от которых расходились паутины трещин.
Так я намного раньше своих сверстников познакомилась
с фашизмом. Через несколько дней мы вернулись домой, в Одессу. Берлин остался
в памяти как большой практикум по политграмоте.
Написала о последних днях пребывания в Берлине,
охваченная не только воспоминаниями о событиях, но и воспоминаниями чувств.
Вспомнилось и передалось то настроение, тот удивительный всплеск эмоций,
который возник тогда и охватил всю мою душу. Но перечитав написанное, я
вдруг остановилась: а так ли все это было? Так ли расставлены акценты?
И нельзя ли их немного переставить? Например, в сцене с капиталистом. Ведь
«жертва капитализма», хорошенькая продавщица довольно грубо и бесцеремонно
«завернула» нас, хотя до конца даже короткого рабочего дня оставалось
не менее 15 минут. И ее всего лишь заставили быть вежливой с покупателями
и заинтересованной в реализации товара.
Восторг перед грандиозной рабочей демонстрацией,
организованной коммунистами, тоже несколько меркнет, когда вспоминаешь,
как десять лет спустя они (многие из них) шли по нашей земле под знаменами
Гитлера. Куда же девалась революционная ситуация? Реальностью оказались
только стреляющие по нашим окнам фашисты и тот ужас, который мы пережили
в темном коридоре
торгпредства... Все это заставляет задуматься о том, что же такое сама
эта «революционная ситуация» и каковы альтернативы ее разрешения. Ясно
одно - чисто классовый анализ оказывается здесь, мягко говоря, недостаточным,
в него властно вклинивается человеческая психология.
Сама эта мысль родилась у меня под влиянием
книги «Бергман о Бергмане» - ее мне читала Маша, моя младшая дочь, театральный
режиссер, после того, как мы поговорили с ней о проблеме революционной
ситуации. Бергмана эта ситуация вовсе не нтересует, но рассказывая о своем
фильме «Стыд», он говорит, как страх - физический и психический - делает
из людей фашистов. Разумеется, это только одна сторона даже психологического
рассмотрения - действует не только страх. Но сама эта мысль повернула меня
в другую сторону.
<......................................>
________________________________________________________________________________________
|