.
.
Летом 1939 я приехала в Москву жить. Здесь меня ждала
мама и с нетерпением двоюродный брат Сашка - самый близкий, самый родной
и самый авторитетный руководитель детских шалостей и приключений. Ждал
институт - легендарный Московский - Истории, Философии, Литературы. Я обязана
была поступить - от этого, как представлялось мне, зависело исполнение
всех моих жизненных планов. В тамбуре одного из вагонов поезда Киев-Москва
мы, киевские ребята, обсуждали именно это - как мы будем учиться в ИФЛИ,
- а то, что будем, было просто самоочевидно. Нас было четверо - я, Муня
Люмкис, Юлик Волков и еще один наш товарищ, не из 79 школы, что, по нашим
представлениям, весьма снижало его шансы попасть в этот институт. А Юлик
Волков туда и не собирался - он просто провожал меня. И всю дорогу молчал.
На московском вокзале мы все распрощались - у каждого был какой-то адрес,
по которому следовало добираться. А мы с Юлькой стояли на платформе около
моих вещей, их на самом деле было немного, и ждали. Меня должны были встретить,
но я не знала, кто это будет. Скорее всего, конечно, мама... И тут я увидела
Сашку - он бежал с другого края платформы, и я кинулась навстречу...
Юлик стоял у моих вещей. Он молча пожал руку Сашке, потом
мне и неожиданно для меня повернулся и пошел прочь, бросив на ходу: «Счастливо!
Я поехал!» Я не успела сориентироваться, не успела броситься вслед - Юлик
затерялся в толпе. Больше я его никогда не видела. Он погиб на войне.
Впрочем, тогда я огорчалась недолго. Мне, разумеется,
было немного досадно, но я быстро выбросила это из головы. Потому что рядом
был Сашка! Мы шли и говорили, говорили, говорили. Расстояния, которые разделяли
нас много лет, оказались совершенно не властны над нами. Об этом позаботилось
и само время, упорно работавшее над созданием этого потрясающего единства
во всем - от прозрений до заблуждений, от достоинств до недостатков. Время
равняло судьбы, подстригая нас, молодых, как кусты, которые должны быть
одинаковы во всем, - срезало верхушки, особенно цветы, и оставляло ветки,
которые могли сгодиться на все, что нужно было стране.
Конечно, в стране были люди, которых в сталинские времена
не превратили в мишень для репрессий, уничтожения, унижения, превращения
в граждан второго сорта. Но мы с Сашкой к ним не принадлежали. Наши судьбы
были одинаковы. Его отца тоже забрали в 37-м. И тоже расстреляли. Но тогда
мы оба еще надеялись, что отцы живы, а партия денно и нощно старается понять,
кто же репрессирован ошибочно, разобраться во всем и вернуть своих верных
сынов. И мы должны ей всемерно помочь в этом. В первую очередь тем, что
сами должны быть безупречны и преданы, преданы, преданы...
Какой странный двойной смысл в этом слове - «преданы».
Преданы стране и преданы страной не только наши отцы, но и мы. И обмануты.
Сейчас-то все это нетрудно понять. А вот в те времена...
Все было очень странно. И многое уже тогда казалось непонятным.
Например, как могли оказаться в одном положении мой отец, активный коммунист,
и Павел, отец Сашки, тихий беспартийный бухгалтер-экономист. В ранней
молодости он был эсером. Участвовал в какой-то экспроприации в Петербурге.
Был арестован и осужден на пожизненное заключение в одиночке, не помню
точно, Петропавловской или Шлиссельбургской крепости. Невиданная жестокость
царской охранки - Павлу было тогда не более семнадцати лет! Было это в
1907 году, и просидел он в одиночке целых десять лет. Освободила его только
Октябрьская революция. «Неужели непонятно, что он в этой революции души
не чаял? - объяснял мне Сашка. - Так как же?..»
А я вспоминала Павла, небольшого, тихого, удивительного
книголюба - в его квартире не было стены, которая не была бы закрыта стеллажами.
И книги на них были самые разнообразные - философские, художественные,
экономические, исторические. Был даже Талмуд на русском языке. И вообще
множество раритетов. Эта страсть - страсть к самообразованию появилась
у Павла в тюрьме, в одиночной камере. Царские сатрапы все-таки понимали,
что в одиночке несладко, и разрешали узникам читать и без ограничения пользоваться
библиотечными архивами. И кто-то с воли имел даже возможность, как мне
кажется, руководить этим чтением. В то проклятое царское время...
Мы с Сашкой ехали на метро до станции «Бауманская». Там жила
моя родня. Это была совсем другая Москва - не та, о которой писали в газетах
и которую показывали в кино - неизмеримо далекая от архитектуры улицы
Горького и Пушкинской площади, Кремля и Мавзолея В. И. Ленина. Это была
деревянная Москва - в одну сторону от метро знаменитая Немецкая слобода
с обличьем петровских времен и при ней Немецкий рынок; а в другую
(стоит только пересечь Бауманскую улицу), - бывший Девкин, а ныне Бауманский
переулок с домом митрополита Введенского, известного по диспутам с наркомом
Луначарским, и со старинной Девкиной баней. И совсем неподалеку Елоховская
церковь, в ту пору главная церковь Москвы, выполнявшая роль собора. В этом
переулке жила моя тетя Роза, росли мои братья Саша и Миша, а теперь жила
и моя мама. Дом, конечно же, тоже был деревянный. Деревянный, двухэтажный.
Он смотрел фасадом в своего рода дворик, ограниченный стоящими буквой «П»
такими же двухэтажками. И жили там, в основном, люди невысокого достатка
и совершенно определенного круга - шоферы, мелкие служащие и работницы
с ближней ткацкой фабрики. Евреев здесь, за редким исключением, не было.
Квартира Розы находилась в коммуналке на первом этаже.
Две смежные клетушки с высокой голландской печкой - на две семьи?! - нет,
для такой скученности квадратура эта была явно не приспособлена. И я сразу
же подумала, что жить здесь не буду.
Но остановись время - остановись в Девкином (Бауманском)
переулке. И вот оно остановилось - я снова вхожу в квартиру, в которую
не раз входила вместе с папой. Очень хорошо, что рядом со мной Сашка, потому
что это что-то настолько свое, настолько близкое, что может заменить многое
другое. Но все-таки я вхожу сюда без папы... Я смотрю на большую двуспальную
кровать с металлическими блестящими шишечками, на которой теперь живет
моя мама. Я не зря говорю «живет», потому что, по-моему, это единственное
место, которое в квартире принадлежит ей. А дома ее нет. Мы пришли, а ее
нет. И даже нет каких-то ощутимых следов ее присутствия, ее вещей. В первый
момент меня это как-то больно ударяет, но я тут же отвлекаюсь на Сашку,
потому что наш разговор нескончаем. И вот двери открываются, и входит моя
мама. Моя мама, которую я не видела полтора года. Моя мама, моя любимая
мама! Я смотрю на нее и вижу, что она изменилась. Да, она похудела, она
даже постарела, потому что теперь уже все волосы у нее седые. Но она оправилась
от потрясения - у нее снова ее замечательные лучистые глаза, которые светятся
радостью, светятся любовью. Я бросаюсь к ней, прижимаюсь, чувствую, как
она меня гладит... Гладит, но не целует. Точно так, как она это делала
всегда - настоящая, как сама реальность.
Здесь я позволю себе дополняющее отступление - возвращу читателя
к главе воспоминаний «Одесса» - к тому моменту, в котором говорится о детском
садике, куда мы водили нашего Леньку - возвращаю к необыкновенной воспитательнице
Белле Израилевне, привившей моему брату страстную любовь к биологии.
И что может быть больше того счастья, что мама ее встретила
в Москве! И Белла, узнав о горе, постигшем нашу семью, не побоялась проявить
дружеское расположение к жене врага народа и даже более - трудоустроила
библиотекарем - в Бауманский районный Дом пионеров, где она сама работала.
Весь пафос того, что делали в этом Доме пионеров был направлен
на работу с трудными подростками. Людям непосвященным кажется, что проблема
«трудных подростков» возникла чуть ли не сегодня. На самом деле она существовала
во все времена, но научный подход к этому вопросу тематически обособился
только в ХIХ веке - здесь следует мимоходом отметить сфокусированное в
романе «Подросток» пророческое внимание Достоевского.
А в Доме пионеров все началось с духового оркестра. Этот
шаг оказался правильным. И Бабичев, руководивший этим оркестром, стал кумиром
никому не подчинявшихся дворовых мальчишек, среди которых оказался, как
мне помнится, Лев Дуров. Именно Белла привела туда его, известного в будущем
актера, и курировала затем всю жизнь.
Несколько позже появился и детский театральный коллектив,
руководимый режиссером Серпинским.
К усилиям воспитательного характера подключилась и моя мама
- стала инициатором «Литературных чтений» и диспутов с участием авторов
- таких, например, как Ираклий Андронниковы. Был приглашен в библиотеку
и Корней Иванович Чуковский. Он приехал, побывал на литературных диспутах,
посмотрел занятия театрального коллектива, послушал оркестр и в итоге предложил
вести при библиотеке литературную студию. К автору знаменитого «Мойдодыра»
потянулись ребята постарше и я тоже стала неизменной посетительницей.
Корней Иванович придал своим занятиям два направления.
С одной стороны, он развивал в нас образное видение взаимоотношения
реальных и сказочных персонажей, их движений и мимики. При этом он предлагал
нам сценически изображать встречи самых несовместимых персонажей - Тараканища
с Доктором Айболитом или Бармалеем, или паука и «Мухи-Цокотухи» с Мойдодыром.
Второе направление его работы относилось к звуковой стороне
речи - к фонетике. Он давал задания, в которых предлагал выражать мысли
и чувства бессловесных объектов (как одушевленных, так и неодушевленных),
например, пОезда с помощью абракадабрских звукосочетаний.
Его собственные движения были невероятно выразительны.
Одним только указательным пальцем он мог передать невероятное количество
разных ситуаций, чувств и мыслей. Он мог разговаривать с нами почти без
речи.
В те времена, мне казалось, к великому сожалению моему,
что Чуковский - один из удачников - один из тех, у которых в жизни все
благополучно, и лишь много позже, уже после войны, мне в руки попало его
письмо к моей маме. «Я так мал, так мал - писал Корней Иванович, - что
не могу помочь своей бедной дочери...» Речь шла о Лидии Корневне - диссидентке,
особо и жестоко преследуемой и я поняла: в этой стране нет ни одного
человека, защищенного от морального убийства...
Уже на следующий день мы, все трое, приехавших поступать
в ИФЛИ, были в сборе. Дорога от Бауманского переулка до Ростокинского проезда,
где находился ИФЛИ, оказалась на редкость простой. Именно простой, хотя
и не близкой. Я шла туда через железнодорожный мост к метро «Красносельская»,
потом ехала на метро до Сокольников, потом на трамвае, а затем пешком.
Институт был далеко не в центре Москвы. Но зато стоял в лесу. И я до сих
пор прямо зрительно вижу и само здание, и все то, что вокруг него расположилось,
и большое поваленное дерево, которое уже от времени стало бревном, на котором
мы так часто сидели. Но это все было позже. А теперь мы, встретившись в
условленное время где-то поблизости от института, открыли его дверь.
Через несколько дней начались экзамены. Первым было сочинение.
Выбранная мною тема - сравнение Павла Корчагина с Печориным. Я увлеклась
и за время, отведенное на сочинение, умудрилась исписать 24 листа. Мунька
затронул другую тему - литературоведческую. И, как ни странно, но
наши работы, обе, были признаны лучшими вступительными сочинениями года.
И об этом было сообщено на доске объявлений. Но зато все повернулось совершенно
иначе, когда мы сдавали физику. Ощущалось, что нас тянули за уши
как победителей первого экзамена и в итоге оказалось, что мы прииняты -
Мунька на филологический факультет, а я на философский. Но... И тут-то
началось настоящее. Меня вызвал к себе декан и попросил забрать документы.
Без скандала - так, мол, будет лучше. Он был корректен, но сказал совершенно
четко: «Зачислить вас на факультет невозможно, потому что он идеологический.
Мы берем только коммунистов и комсомольцев». Когда я возразила на это,
что я комсомолка, он не глядя на меня, сказал: «Да, но вы...» И здесь
он замялся и я закончила: «Дочь врага народа». Он утвердительно кивнул
и беспомощно развел руками.
- «Но по Сталину, - выдохнула я с горечью, - сын за отца не отвечает».
- «И все же, - ответил декан, - вам придется поступать на другой факультет».
Я повернулась и ушла. Я не забирала документов, хотя осознавала, что не
буду студенткой ИФЛИ.
Надо было на что-то жить. И надо было где-то жить, потому
что Роза предоставила мне право ночевать в ее квартире только до окончания
приемных экзаменов - из расчета на то, что потом я уйду в общежитие. И
я поступила на двухгодичные курсы - здесь имелось общежитие и давали стипендию.
Но я не могла смириться с тем, что моя мечта не сбудется - с тем, что считала
величайшей несправедливостью и написала большое письмо в ЦК комсомола и
отнесла, даже не рассчитывая, что из этого что-нибудь получится. Я только
развивала все тот же тезис - сын за отца не отвечает. Прошло два месяца.
И вдруг я получила письмо из института о том, что я принята и могу приходить
на занятия. Так я стала студенткой ИФЛИ.
Мой брат Сашка поступил в химико-технологический институт
имени Менделеева. У него появилась там прелестная подружка Аня, которую
мы все очень полюбили. Это была чистокровная славянка с расчесанными на
прямой пробор русыми волосами. Спокойная и уравновешенная - очевидно, именно
такая и нужна была Сашке - резкому, импульсивному, горячему - душевно измученному.
А терзала его, наверное, то же самая надежда, что и меня, - найти пути
к тому, чтобы вернуть отца к жизни настоящей и полноценной. Формулировка
приговора «десять лет без права переписки» была, пожалуй, самая гениальная,
самая иезуитская выдумка Сталина - вдохновителя преступного предательства
и обмана ведомого им народа. Он, очевидно, понимал, что такого количества
расстрелянных даже самые запуганные, самые забитые люди не приняли бы.
Не приняли бы и самые идейные. И вот тут-то нас палачи и убийцы обвели
вокруг пальца - заставили ждать брошенных в могилы отцов, доказывать свою
идеологическую преданность, отдавать жизнь за «светлое будущее». Сашка
принял условия игры, которую нам гипнотически навязывали, в гораздо большей
степени, чем я. Он решил бросить институт: «Я пойду на завод - буду рабочим!»
И он прикипел к автомобильному заводу, который много позже стал выпускать
машины «Москвич» - приходил усталый, измученный, но все-таки довольный
собой.
Сашкино подвижничество тяжело воспринимала не только
Роза. Переживала и моя мама, которая к тому времени, я думаю, уже многое
поняла. Очень многое. И я тоже, но убедилась, что говорить об этом
с Сашкой не имеет никакого смысла - он не слышал - здесь он был абсолютно
глухим. В этом отношении даже Анечка, возлюбленная его, перестала пытаться
в нем что-либо изменить
А между тем жизнь подбрасывала нам такие загадки, которые
в еще большей мере, чем прежде, ломали стереотип мышления, навязанный нам
неутомимой пропагандой.
Зимой, не то в конце тридцать девятого года, не то в начале
сорокового, у нас в доме появилась женщина, которую мы раньше никогда не
видели. Она была еще сравнительно молода, но вокруг черных и цыганских
глаз ее венгеровских уже собрались большие лучики морщин. И волосы были
совсем седые, точь-в-точь как у моей мамы. Я взглянула на нее и вспомнила
- это ее фотографию я нашла когда-то в письменном столе отца. И тогда мама
успела мне сказать, что это Бася, папина младшая и самая любимая сестра.
Но в комнату вошел отец, и я услышала первую, пожалуй, единственную, жесткую
ссору между ним и мамой. Отец кричал, что он давно предупреждал, чтобы
этой фотографии не было в нашем доме и чтобы это имя в нем никогда не произносилось.
Позднее я поняла, что папа не хотел знать, где находится сейчас Бася и
что она делает, потому что НКВД (в будущем КГБ) может заставить его под
пыткой сказать что-то лишнее и навести этих страшных людей на любимую его
сестру - активную меньшевичку, которая ушла в подполье.
Да, это была Бася. Однако звали ее теперь вовсе не Бася,
а Шура. Так мы потом всю жизнь и прожили как Шура-большая и Шура-маленькая.
Шура-большая была веселая, удивительно эмоциональная. Она излучала какие-то
флюиды тепла и активности одновременно. В доме нашем сразу все переменилось.
И Роза, и мама были просто счастливы. Они обхаживали Шуру, они не отходили
от нее все то время, какое находились дома, и непрерывно беседовали. Правда,
они не очень любили разговаривать при нас - старались не упоминать о том,
где жила Шура, что она делала. Но Шура и сама нам обо всем рассказала.
Оказывается, она жила под Ленинградом, около большого аэропорта, и заведовала
детским садом. Она удивительно хорошо рассказывала о детях, которых она
воспитывала, и я сразу поняла, что им повезло. И я не ошиблась - лет через
десять я воочию наблюдала ее работу с детьми..
Постепенно мы с Сашкой уразумели, что Шура жила
не под своей фамилией и не под своим именем. Под фиктивной фамилией жила
и ее единственная дочка Танечка, о которой мы раньше тоже ничего не слышали
и которая осталась под Ленинградом с какими-то Шуриными друзьями - осталась
потому, что ее отца, Алика Райского, недавно арестовали (так же, как и
наших отцов - Сашкиного отца и моего). Впрочем, здесь был вынесен совсем
иной приговор - 15 лет лагерей, и переписка разрешена. Семьями репрессированных
такое положение воспринималось, как великое счастье. Оно и в том, что Алика
не расстреляли - он выжил, вышел на волю и жил потом со своей семьей. А
между тем, он был членом подпольного меньшевистского ЦК, самораспустившегося
только с началом войны, когда и эти люди решили, что все силы надо бросить
на борьбу с фашизмом. Но откуда фамилии: Шурина - Дольник, Алика - Райский?
Я спросила свою маму, и она, которая никогда ничего не скрывала от меня,
ответила, что Шура, не считавшая правильной ни Октябрьскую революцию, ни
гражданскую войну, попала в тюрьму раньше всех наших родственников - попала
вместе с папиным братом Меером, тоже меньшевиком - попала еще по распоряжению
самого Ленина. Ей было тогда девятнадцать лет. Почти всю остальную жизнь
она провела по тюрьмам и ссылкам. И когда в начале тридцатых им дали «передышку»
(а в том, что их посадят снова, не сомневался никто), Шура и Алик взяли
чужие имена и подложные паспорта, то есть ушли в подполье. И исчезли из
поля зрения бдительных энкаведешников. Когда мама спросила, не боятся ли
они, что потом с ними расправятся еще более жестоко, чем с другими (бедная
мама, она думала, что может существовать это «еще более жестоко»), Шура
ответила: «Они никогда не сводят концы с концами». Вот и теперь, когда
посадили Алика, они не провели параллели между ним и тем, кем он был раньше,
тем, кто сидел с начала двадцатых годов.

Шура Большая (Бася), ее муж Алик
и их дочка Таня, родившаяся в Нарымской ссылке
И вот однажды Сашка - мы шли мимо гаражей, которые примыкали
к одному из наших домов, повернули к Красносельской и вошли на железнодорожный
мост - остановился у перил, оглянулся, как заговорщик (не ли кого поблизости).
Было холодно и ветрено, и у перил моста мы стояли одни. Он прошептал: «Мы
должны сообщить все в органы. Они враги! Настоящие!» Я, которая всегда
готова была идти за ним, тут поняла, что за ним не последую. Более того,
я ощутила, что должна пресечь, немедленно пресечь его комсомольско-патриотический
порыв: «Нет. Ни в какие органы мы не пойдем. Она хороший человек. И никакой
не враг». Саша посмотрел на меня остро и напряженно и как-то удивительно
быстро, с готовностью, вконец его обессилившей, ответил: «Не надо? Ну хорошо,
не надо!» Это уже и в нем началась переоценка ценностей.
А у нас с мамой прибавилось еще одно горе - Ленька.
Жил он у папиной сестры Анюты в Днепропетровске. И ему там было хорошо,
но сказывалось и все то, что выпало на долю нашей семьи и плюс к этому
порог подросткового возраста. Анюте стало трудно справляться с Ленькой.
Он перестал учиться - разумеется, в той степени, в какой мог перестать,
потому что все хватал на лету. Увлекся театром, драмкружком при Дворце
пионеров. Руководитель этого кружка, заслуженный артист, внушил Леньке,
что здесь настоящая дорога. Поэтому Ленька ничем больше не интересовался.
Он приходил из школы и громовым голосом декламировал монологи. Например,
монолог Скупого
рыцаря, монолог Бориса Годунова, монолог Гамлета - на мелочи не разменивался.
Правда, помимо чтения монологов, он бегал на берег Днепра и купался в любую
погоду. Однажды в очень ветреный день он удалился от береговой кромки Днепра
настолько, что вернуться силенок не хватало - волна захлестывала. Подоспевшая
Анюта нашла каких-то рыбаков, те сели в лодку и поплыли к Леньке. Я живо
представляю себе, как Анюта бегала вдоль берега и кричала: «Боже мой! Что
я скажу Вере! Что я скажу!» После этого случая Ленька не только побаивался
лезть в воду при бурной погоде, ни и поведением изменился - утихомирился.
В конце учебного года мама решила отправить Леньку в Харьков
к Менделю. Это была нелепая затея. В Харькове Ленька был никому не нужен,
и никто не собирался его брать. Сам Мендель, наш любимый дедушка Мема,
не мог написать это маме - он, конечно, взял бы Леньку. Но его жена Шева
и их дочка Рая отказали. Они были категорически против того, чтобы Леня
у них жил: у них нет места, у них нет денег, чтобы его содержать, и они
не могут его принять. В Харькове жил еще один мамин брат, Исаак. Но и он
не мог взять Леньку к себе. Он устроил его в кожевенно-обувной техникум,
а там общежитие - пьянки, драки, матерщина. И Ленька, еще не устоявшийся,
неоперившийся подросток, конечно же, был безумно несчастлив. Он начал пить,
попадать под влияние более старших, при том самого низкого пошиба, проводить
время в их компании. Он сам понимал это, старался удержаться, но всякий
раз оказывался слабее. Единственной его радостью были встречи с Менделем.
Они встречались каждую неделю в парке Шевченко, всегда в одном и том же
месте. Мендель тяжело переживал эти встречи, потому что чувствовал, что
Леньке плохо и что он бессилен ему чем-либо помочь. Видимо, после этих
встреч он приходил домой взволнованным, грустным и даже поникшим. Рая выследила
его. Пошла однажды утром вслед за ним и обнаружила с Ленькой на заветной
скамейке в парке. После того, как Мендель ушел домой, Рая догнала Леньку
и своим металлическим голосом сказала, что если он не прекратит эти встречи,
она отправит его в детский дом. Беззащитный, одинокий мальчик испугался.
Написать нам об этом он не рискнул и его встречи с Менделем прекратились.
Мы всего этого не знали. Но по Ленькиным письмам, в которых
он, правда, никогда не жаловался, чувствовалось, что что-то тут не так.
Шел сороковой год и на весенние каникулы мы, подсобрав денег, вызвали его
в Москву. Мне Ленька рассказал все как на духу. Но я не могла что-либо
изменить. А сказать маме тоже побоялась. Между тем, Роза вовсе не так гостеприимно
приняла Леньку, как она принимала Шуру. И потребовала, чтобы он пробыл
у нее, а значит, и у нас, не более недели. И чтобы мы немедленно взяли
ему обратный билет. Это было ужасно, и я, и мама понимали, что мы не можем
этого сделать - никоим образом. Но выход нашелся. Это была Белла Израилевна.
Белла, которая любила Леньку с детства, молодой биолог, от которой Ленька
не отходил в комнате природы в одесском детском саду. Она взяла его к себе
на все каникулы, в свою десятиметровую комнатку в коммуналке на Большой
Почтовой улице, которой замыкалась Бауманская. Двадцать лет спустя, в шестидесятом
году, когда у меня родилась младшая дочь Маша, мы привезли ее из роддома
все в ту же десятиметровую комнату Беллы на Большой Почтовой. Потому что
своего жилья у нас все еще не было.
Мы (я и мама) провели вместе с Ленькой почти три недели.
Мы бродили по улицам, выкладывая друг другу и мечты, и несбыточные надежды,
и планы на будущее. Ленька читал мне свои полудетские стихи. Мы его приодели,
душевно отогрели, и уехал он уже совсем иным, чем появился. Мы надеялись,
что скоро свидимся снова.

Мой брат Леня, 13 лет, г. Днепропетровск
Закончился сороковый год, начался сорок первый. Все шло
так же, как раньше, и ничто не предвещало чего-то особенного. Вот только
в июне, примерно дней за десять до начала войны, мимо Ростокинского проезда
по ночам пошла военная техника. Она шла непрерывным потоком каждую ночь.
Грохотали танки, грузовики с какими-то пушками. Мы, само собой разумеется,
почти ничего не понимали в этой технике, но достаточно, чтобы почувствовать
- приближается начало войны.
И вот наступил этот день, 22 июня. В летний период мамина
читальня из Дома пионеров по воскресеньям выезжала в летний павильон, расположенный
на стадионе, и я шла туда вместе с ней - помочь и пообщаться. В этот день
на стадионе проходил футбольный матч, а я в то время, стыдно признаться,
была болельщицей и, оставив маму в читальне, оказалась там.

Шура Венгер и ее мама в павильоне библиотеки
22 июня 1941 года
«Локомотив» играл с какой-то другой командой, какой,
я уже не помню. На трибунах было много народу, матч шел интересно. И вдруг
все как бы споткнулось. Именно споткнулось. Споткнулись обе футбольные
команды, как бы остановились на шаге. Мы не слышали того, что им сказали.
Мы не поняли, что случилось, но поняли, что что-то очень страшное. Через
минуту все футболисты сбились к центру поля, и из репродукторов раздалось
знаменитое обращение...
Мы узнали, что враг «вероломно напал на нас».
Ни одной секунды не медля, почти все удалились со стадиона.
Трибуны опустели. Я поспешила сначала к маме, а потом к метро. Через
час я стояла в длинной очереди к дверям комсомольского комитета. Почти
все студенты МИФЛИ уже оказались здесь, и каждый держал в руках заявление
о немедленной отправке на фронт. Рядом со мной стоял в очереди Муня Люмкис
в своих неимоверно толстых очках. Я подумала, что его-то как раз на фронт
не возьмут, но промолчала, чтобы не огорчать. Однако Муня все-таки попал
на фронт - он знал наизусть всю таблицу для проверки зрения и обманул врачей.
Это была наша последняя встреча - Муня погиб в первом же бою.
Все наши заявления мы отдавали в руки секретарю комсомольской
организации института Александру Шелепину. Он отправил на фронт весь институт,
а сам умудрился остаться в Москве. Просто пересел в кресло секретаря горкома
комсомола. Даже прославился тем, что отправил на фронт Зою Космодемьянскую.
По-видимому, именно эти подвиги проторили ему дорожку в руководство КГБ...
На третий или четвертый день после начала войны возле
меня в коридоре остановился мой однокурсник Глеб. Это был очень интересный
парень, способный на всякого рода розыгрыши, резкие выпады и оригинальные
решения. Он был сыном какого-то очень крупного священнослужителя. Был ли
он сам религиозен, я не знаю. Но однажды он повел меня в Елоховскую церковь
на пасху, чтобы показать, как празднуют этот религиозный праздник сегодня,
почти через двадцать пять лет после Октября. Церковь была не просто полна,
она была забита так, что ни двигаться, ни дышать было невозможно. Но люди
все-таки пели. Конечно, мелодию и текст молитв знали только старушки -
молодые стояли
молча. И вдруг Глеб запел. Низким, звучным баритоном. Да, он знал все,
что положено было петь на пасхальной службе в православной церкви. Старушки,
стоявшие вокруг нас, встрепенулись, стали подвигаться, чтобы нам было просторнее.
Послышался восторженный шепот - как же, оказывается, есть и молодые, которые
поют в церкви...
Сейчас, в коридоре института, Глеб остановился против
меня очень собранный, серьезный и, отведя в сторону, сказал: «Послушай,
я бы хотел, чтобы ты возможно быстрее уехала из Москвы». Я опешила - почему,
на каком основании он мне это предлагает? И сказала ему, что такого не
будет никогда: я не так труслива, чтобы уехать из Москвы в этот тяжелый
момент и оставить других защищать нашу столицу! Он выслушал этот поток
и так же серьезно и спокойно сказал: «Ну, если ты не хочешь уехать из Москвы,
то имей при себе хотя бы цианистый калий». - «Зачем, Глеб, зачем?!» - «Когда
немцы подойдут к Москве, а они постараются подойти, в Москве начнут бить
евреев», - сказал Глеб. Я поразилась: «Да ты что? Зачем? Почему?» Он снова
помолчал и сказал: «Ты должна помнить, что в каждом русском живет антисемит».
Это было для меня уже просто неожиданным ударом. Я ему не поверила, потому
что за всю свою предыдущую жизнь я ни разу не столкнулась с прямым проявлением
антисемитизма. Школа, в которой я училась, была насквозь еврейская.
Здесь, в ИФЛИ, было тоже достаточно евреев, и атмосфера была слишком интеллигентная.
Глеб сказал что-то невероятное, что-то страшное. «Глеб, - сказала я, -
ну, а ты сам мог бы пойти бить меня только за то, что я еврейка?» Он прищурил
глаза и ответил: «Тебя? Нет. Ведь я тебя люблю». Тут я повернулась и быстро
пошла прочь и больше никогда его не видела. Теперь я думаю - он, конечно,
же несколько преувеличивал шансы погромщиков, но его оценка, могущей сложиться
ситуации, более чем заслуживает уважения - не всякий нашел бы в себе мужество
сказать то, что он сказал мне в эти страшные дни.
Еще через пару дней мы почти перестали бывать в институте.
Девушки начали дежурить на мобилизационных пунктах. Мне и еще одной нашей
студентке, Тане, достался пункт, расположенный в одной из школ и абсолютно
неприспособленный к приему людей. Тем более к тому, чтобы обеспечить нужный
психологический климат. Тем пунктом, на котором дежурила я, обслуживался
большой завод. Люди, без толку слонявшиеся по классам, не имея ни достоверной
информации о том, что происходит на фронте, ни возможности выйти из этого
помещения, ни связи со своими родными, нуждались в первую очередь и, по-моему,
именно в психологической помощи. Но мы об этом тогда даже не подозревали.
Мы просто не могли видеть этих молодых мужчин, которым предстояло идти
на фронт, в таком растерянном состоянии. Мы взялись за то, что лежало на
поверхности, - звонили родственникам, друзьям, подругам будущих солдат
и ополченцев, рассказывали, где их найти; у кого не было телефона, развозили
записки. И когда в школу потянулись друзья, матери, дети, жены, настроение
сразу же изменилось. Но этого, конечно, было мало. И мы попытались организовать
для
своих подопечных что-то вроде концертов - все мы так или иначе были
причастны к работе драмкружков, концертных бригад. Первые попытки никакого
успеха не имели, хотя мы, как нам казалось, учли уровень и настроение аудитории.
Советский юмор не действовал - плохо слушали и почти не смеялись. И тогда
Таня начала читать им Чехова. «Даму с собачкой». Успех был абсолютно потрясающий.
И совершенно для нас неожиданный. Молча, затаив дыхание, слушали эти усталые
и настороженные мужчины тихую повесть Чехова. Они как бы преобразились.
Таня была высокая, сильная, крупная русская девушка. Высокая
настолько, что стыдилась своего роста. Однако она была очень недурна собой
и удивительно пропорционально сложена, так что даже не сразу можно было
увидеть, как она велика. Однажды, когда, прервав чтение, бойцов выстроили
в шеренгу, правофланговый, высокий красивый парень, попросил: «Таня, станьте
около нас!» Таня подошла и стала рядом с ним. И оказалось, что он ей чуть
ли не по плечо. «Царь-баба!» - восхищенно воскликнул парень. А потом добавил
чуть растерянно: «А я всегда думал, что я мужчина ничего!..» Между тем,
я глядела на этого парня и думала, где же я его видела. Его лицо было мне
знакомо. Необыкновенно знакомо. Я подошла к нему и сказала: «Вы знаете,
у меня такое впечатление, что мы с вами встречались. Ваше лицо мне кажется
очень знакомым». Он засмеялся и сказал: «Нет, вам знакомо не мое лицо,
а лицо моего брата, киноактера Сергея Столярова». И тут я сообразила -
да, это было очень похожее лицо. Только старше и жестче. Сергей Столяров,
сыгравший в популярнейшей кинокомедии «Цирк» одну из главных ролей, был
тогда кумиром зрителей. У нас в ИФЛИ незадолго до начала войны была встреча
с режиссером Александровым, Любовью Орловой и Сергеем Столяровым. Сергей
был немногословен - на вопрос, трудно ли было ему создать образ циркового
артиста и прекрасного человека, он повел крепко и красиво вылепленными
плечами и ответил: «Ничего, фактура позволяет». А теперь передо мной стоял
его родной брат Роман. Оказалось, что говорить с ним очень интересно. Да
и вообще в такой ситуации контакты между людьми возникают быстро. Через
три дня мы уже все знали друг о друге. Единственное, чего я никогда не
говорила - это, что у меня нет никакого жилья. Но когда я все-таки проговорилась,
Роман воскликнул: «У меня же есть комната! Я ухожу, давай мы сделаем так
- я оставлю тебе эту комнату». Я очень засомневалась. Он сказал: «Перестань.
Давай съездим туда и договоримся».
Я попросила для него увольнительную, и мы поехали. Комната
была небольшая, но аккуратная. Конечно, в коммуналке. На Преображенке.
Мы зашли в домоуправление, и Роман очень быстро договорился с женщиной,
которая там сидела. «А вы, - сказала она, - сегодня распишитесь, принесите
бумажку, а завтра я квартиру перепишу на нее». Я не хотела этого делать,
но Роман очень на меня нажал, и мы договорились на следующий день утром
пойти в ЗАГС. Теперь же ему было пора возвращаться на мобилизационный пункт.
Назавтра я шла с намерением действительно сделать так, как мне предлагал
Роман. Но Романа там уже не было. Группу, с которой мы провели эти четыре
дня,
отправили на фронт.
Как и многие другие, Роман погиб под Москвой в первый
же месяц боев. Я узнала это уже от Сергея, которому Роман успел написать
обо мне. Сергей позвонил мне через день после отправки Романа. Он настойчиво
потребовал, чтобы я пришла к нему, и я пошла. По странной случайности,
мы оказались почти соседями - семья Столяровых жила в том же Бауманском
районе, в соседнем переулке. Сергей понял Романа неточно - он явно думал,
что я стану членом их семьи. Но подобных мыслей не было ни у меня, ни у
Романа. Я вообще была защищена от любых увлечений, потому что на каждые
две мои мысли третья была - Славка. И никто не мог выдержать сравнения
с ним. Но Сергей встретил меня как свою родственницу. Даже не будущую,
а уже настоящую. Познакомил меня со своей сестрой Лизой. Много рассказывал
о себе и о Романе. Много пел - он тогда с увлечением занимался пением,
голос у него был приятный. Я не могу сказать, что мы встречались часто,
но общались с удовольствием. Если позволяло время.
А времени становилось все меньше. Наконец заработали курсы
медсестер. Так что каждое утро уже было плотно занято, но и другие обязанности
(в том числе и работа на мобилизационном пункте) никуда не уходили. Материал,
который давали на курсах, был для меня нетрудным - курсы эти работали по
сокращенной, прямо-таки блиц-программе. Нас учили оказывать первую помощь,
не бояться крови - водили чуть ли не с первых дней в больницу на практику,
в основном на операции. И не зря. На первой же операции с вскрытием брюшной
полости моя подруга Лена Никольская грохнулась в обморок. Но из всего периода
обучения на этих курсах больше всего запомнилась мне, поразила меня, да
и не только меня, одна встреча. Нас предупредили, что к нам придет профессор,
который должен провести серьезную беседу. Группа наша состояла из студенток
ИФЛИ. Профессор долго рассматривал нас, потом начал без обиняков: «Я вижу,
что вы интеллигентные люди. Я пришел вам сказать, что главной
задачей, которую вы призваны выполнять на фронте, будут не перевязки.
И не помощь раненым на поле боя. Ваша задача будет - поднимать настроение
воинов... Ну, скажем, обслуживать армию в качестве женщин... Так сказать,
половое общение, без которого мужчинам бывает очень трудно. Вы должны понять
- для солдат и офицеров, которые на много дней, а может быть, и месяцев
войны будут отлучены от своих семей, вы будете единственными женщинами...
Так что перед тем, как идти в армию, подумайте». Мы всё выслушали, но не
были особенно потрясены - мы просто не поверили этому профессору. Потому
что у нас никогда и нигде не обсуждалась проблема, которую мы теперь называем
проблемой секса. Однако сейчас я думаю, что человек этот во многом был
прав и его предупреждение помогло нам правильно повести себя в тех ситуациях,
в которые мы попадали во время войны.
Война неумолимо приближалась к Москве. Начались бомбежки
- на небольшие здания, на деревянные кварталы вроде нашего посыпались зажигалки,
на крупные здания - фугаски. Теперь мы как-то плохо различали день и ночь,
спали урывками, по ночам нас чаще всего можно было застать на крышах, а
нет - так в госпиталях или бомбоубежищах. Текущие жизненные проблемы решались
в промежутках между дежурствами. Впрочем, работа в госпитале, куда меня
направили, имела очередность графика день-ночь. В нем и произошло мое боевое
крещение. Это была первая бомбежка Москвы, во время которой немцы полностью
уничтожили зенитную батарею, расположенную на крыше Русаковского трамвайного
депо. Оттуда привезли раненых. Я как раз дежурила в эту ночь. С нами, совсем
неопытными сестрами, были всего один дежурный врач и пара опытных сестер.
А солдат, которых привезли с батареи, оказалось много. Передо мной качнули
и бросили на стол носилки с парнем, у которого снарядом выше колена оторвало
ногу. Я возле него одна. Я и он - рядом никакой помощи. Мне необходимо
любыми средствами остановить кровотечение. До сих пор не знаю, как мне
это удалось. Но удалось и я наложила повязку.
Дежурства в госпитале, и дневные, и, особенно ночные,
требовали большого нервного напряжения. За мной закрепили на постоянно
палату и я поименно знала всех своих раненых. В моей палате был тот самый
парень, которого я в день первого налета уберегла от критической потери
крови. Его звали Володя. И другие солдаты из этой же батареи. Володя быстро
стал лидером палаты. В мою этическую шкалу он вписался как сильный и мужественный
человек. Пожалуй, его ранение было самым тяжелым, но вместе с тем он, исходя
из собственной духовности, поддерживал в людях оптимизм, желание преодолеть
трудности и жить полноценной жизнью, . Рядом лежал другой парень. Его звали
Алеха. - осколок попал ему в руку, даже не повредив кость. Но судя по его
поведению, у него были сильные боли, и врачи говорили, что, очевидно, задет
нерв. Кроме того, как я теперь понимаю, он находился в стрессовом состоянии,
и страх пережитого усугублял его болевые ощущения, вызывал повышенную тревожность
и желание привлечь к себе внимание окружающих. Как только начинало темнеть,
он взвинчивал, взбудораживал всю палату. «Сестра! - кричал он. - Летят!
Ты слышишь, летят!» И требовал, чтобы я села около него на постель. Тут
он замолкал. Но стоило мне приподняться, как крик возобновлялся: «Летят!
Опять летят!» Хотя никто не летел, и наше радио - черная «тарелка» на стене
- молчало. Я вынуждена была снова подходить, садиться. Но он стал вести
себя со мной очень неприятно - его здоровая рука оказывалась то на моем
колене, то на плече, но на груди. Тут-то я и вспомнила беседу профессора
на курсах медсестер. Но мне все равно было трудно сориентироваться и понять,
как себя вести, потому что я имела дело вроде бы с человеком, находившимся
в тяжелом состоянии. Это теперь я бы дала этому истероидному и грубому
человеку совсем другую оценку и повела бы себя иначе. Но тогда... Мне ведь
только что исполнилось восемнадцать. Однако Володя, который пристально
смотрел на то, как действует Алеха, в один прекрасный день приподнялся
- у него еще даже костылей не было, - и сказал тому: «Я до тебя допрыгаю
на одной ноге. И если ты еще хоть раз завопишь 'летят!', если ты хоть раз
положишь руку на колено нашей сестричке, я тебя прикончу». Надо сказать,
что это сработало и дышать в нашей палате стала намного легче.
Жильцы нашего дома теперь уже точно знали, что ночью начнется
очередная бомбежка. Звучание мессершмидтов и юнкерсов мы уже безошибочно
отличали от гула наших самолетов. И еще до того, как звучала сирена, говорили:
«Летят!» Ни в какие бомбоубежища мы с мамой не ходили. Впрочем, не ходил
и никто из тех, кого я знала. Туда собирались в основном женщины с детьми
и старики.
Москва начала понемногу пустеть. Люди спешно уезжали -
кто вместе со своим предприятием, двигавшимся на восток, кто просто в эвакуацию.
Довольно скоро опустела и наша квартира. Первыми исчезли соседи Шевыревы,
ярые патриоты и блюстители большевистской идейности. «Мой Шевырев получил
чин подполковника и ушел на фронт», - заявила его супруга Мария Софроновна.
Через неделю после его отъезда исчезли Мария Софроновна, и их взрослая
дочь. В конце войны мы узнали, что служил он по интендантской части. А
результаты его военных подвигов мы увидели воочию уже после войны, в 1945
году. Это были, без преувеличения, вагоны его «личных трофеев», пригнанные
из Германии. Там были и картины в массивных рамах, и старинный фарфор,
и даже солидная немецкая мебель.
Вслед за Шевыревыми уехала моя тетя Роза с младшим сыном
Мишей. Уехала в Пермь вместе с институтом педиатрии, где она в то время
заведовала отделением детской фтизиатрии. Кроме нас с мамой и Саши в квартире
осталась пожилая пара - телефонистка Екатерина Петровна с мужем, столяром-краснодеревщиком
Василием Степанычем. Но Сашку мы видели мало. Он был полностью поглощен
одной задачей - попасть на фронт. Завод давал ему надежную «бронь», и вот
эту-то «бронь» ему надо было «пробить». В те редкие часы, когда Сашка бывал
с нами, квартира оживала. Мы, как прежде, говорили обо всем, мечтали о
будущем. Приходила и Анечка. Но вот Сашка добился своего - получил повестку
из военкомата.
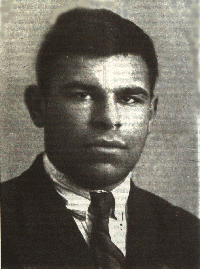
Самый близкий друг моего детства -
двоюродный брат Саша Шерман - перед войной.
Мы устроили ему проводы, просидели до утра, все те
же четыре человека - Саша, Аня и я с мамой. Мы не думали, что расстаемся
навсегда. А потом квартира опустела. Квартира, где мы были раньше гостями
и не всегда желанными, стала как бы нашей. Но это не приносило нам большой
радости. Кроме тех дней, когда мы могли принять, приютить тут людей, нуждавшихся
в крове, или встретиться с друзьями. Или, наконец, в те короткие минуты,
когда мы обе были свободны и не слишком хотели спать, а значит, могли спокойно
посидеть и обо всем поговорить... Одно было для нас ясно - мы не собирались
уезжать из Москвы.
В разгар отъездов забеспокоился и Сергей Столяров. Он
решил отправить свою семью из Москвы и предложил мне ехать с ними. Как
я уже говорила, я не собиралась никуда ехать, но меня поразил выбор, который
сделал Сергей. Он решил отправить семью на Кавказ. Я сказала ему, что этого
нельзя делать, это безумие - немцы будут на Кавказе очень скоро. Сергей
рассмеялся и сказал: «Ну уж нет. На Кавказе у нас нефть. И Кавказ мы немцам
не отдадим!» Я замолчала - все понятно, стоит ли слушать восемнадцатилетнюю
девчонку! Сергей, конечно, отправил свою семью на Кавказ. Сам же уехал
с киностудией на восток. Как я и предполагала, семья Столяровых - его дети
и сестра Лиза - очень скоро оказалась в оккупации. Эта русская семья, несмотря
на все трудности и лишения, выжила. Но что бы было со мной?
Потянулись военные будни - госпиталь, мессершмидты, зажигалки,
фугаски. Возникали и проблемы совсем прозаические, в том числе планируемые,
- скоро зима, где взять дрова; или совсем текущие - как достать еду, как
растянуть ее на дольше...
Но были и яркие события. Об одном таком я сейчас расскажу.
Прямо над нами, на втором этаже, жил известный в то время актер. Даже знаменитый.
Он был актером театральным, но знаменитым его сделал фильм «Свинарка и
пастух». Звали его Володя Зельдин. Его сугубо еврейская внешность была
в фильме отлично использована в качестве кавказской. Послевоенные зрители
знают его по спектаклю и фильму «Учитель танцев». Все девушки, да и молодые
женщины нашего двора были тайно и явно влюблены в Володю. Кстати, вся его
семья - тетка, двоюродная сестра - носили фамилию Поповы и вообще утверждали,
что они русские. А родителей у него не было - они исчезли так же, как и
мои. «Он бы вполне мог взять нашу фамилию, - утверждала его двоюродная
сестра, - а он из упрямства сохраняет свою. Это же очень мешает его карьере».
Услышав от нее такую речь, я стала относиться к Володе с большим уважением.
Но дружбу заводить не стала - слишком уж не хотелось вливаться в поток
поклонниц. Когда началась война, среди «дворовых» девушек вспыхнула конкуренция
за право дежурить с Володей на крыше, вместе гасить зажигалки. Я свое право
спокойно уступала жаждущим, чем снискала их дружбу. Однажды, когда Володя
как раз дежурил на нашей крыше с одной из моих «заместительниц», в момент
бомбежки загорелся соседний дом. Тот, который стоял в глубине двора,
как перекладина буквы «П». Я подозреваю, что там в ту ночь вовсе не было
дежурных.
Во дворе началась паника. Люди вылезали из дворовой «щели»
- окопчика, служившего своего рода бомбоубежищем, и бросались в дом. С
воплями вытаскивали свой скарб. Какие-то корзинки, деревянные сундучки,
матрацы с одеялами и подушками. Женщины с визгом, толкая друг друга, тащили
кастрюли и другую кухонную утварь. А крыша тем временем уже не тлела, а
горела. И тут из нашего подъезда на удивительной скорости вылетел Володя
Зельдин. Да, я забыла сказать, что в нашем дворе было много молодых, здоровых
мужиков, которые имели бронь. В основном, это были шоферы из соседнего
гаража, обслуживавшего какие-то военные предприятия. Володя раздвинул их,
как нечто неодушевленное, и мигом взбежал по пожарной лестнице на горящую
крышу. Двор замер. Володя бегал и прыгал по крыше, стараясь ухватить и
засунуть в бочки с песком те зажигалки, которые еще можно было схватить.
И топча ногами то, что уже нельзя было взять в руки. «Давай, артист! Давай!
Танцуй!» - радостно кричали столпившиеся внизу жители горящего дома. Володя
подбежал к краю крыши, крикнул: «Воду давайте! Шланг!» Мужики не шевелились.
И тогда мы с Леной Никольской, которая, по счастью, осталась ночевать у
меня, схватили шланг и полезли по пожарной лестнице. Шланг был тяжелый,
а лестница для нас непривычная - того и гляди сорвешься. Когда мы добрались
до уровня самой крыши и Володя протянул руки, чтобы принять у нас шланг,
кто-то включил воду. Шланг вырвался, ударил и окатил водой. Володе удалось
перехватить его и он, продолжая его удерживать, направил струю в сторону
пламени.
Передо мной так живо стоит картина этого пожара, что я
подумала - а ведь люди не хотели спасать свое жилище. Вероятно, надеялись,
что им взамен дадут новое жилье в более престижном месте. Ведь столько
пустовало не просто квартир, а целых современных зданий в этот страшный
для Москвы час!
Прошло еще немного времени - времени очень трудного,
особенно во взаимоотношениях соседями. В частности, неузнаваемо изменились
Екатерина Петровна и Василий Степаныч. Они стали вести себя как единственные
хозяева квартиры, высокомерно и агрессивно. Сколько раз в те дни, именно
в те, когда немцы вплотную подошли к Москве, я вспоминала разговор с Глебом
в коридоре ИФЛИ... И все-таки я теперь твердо знаю, что антисемит живет
далеко не в каждом русском, а только в людях деморализованных, ущербных,
жаждущих таким образом изжить свои собственные комплексы.
Немцы под Москвой были разбиты. Город понемногу возвращался
к жизни. И, как показывает мой опыт, одними из первых возвращались к жизни
учреждения, то есть совслужащие, которые в них числились и получали зарплату.
И начинали
понемногу показывать советскому народу, что они таки существуют. Я
оказалась одной из их первых жертв: в один прекрасный день, примерно в
марте сорок второго, меня внезапно вызвали в какой-то наробразовский орган.
Я по неопытности и наивности своей пошла, хотя моего института уже давно
не было в Москве. Да и трудилась я совсем в другом ведомстве. Но такова
уж была неистребимая привычка выполнять распоряжения, подчиняться бумажке.
Одним словом, я пришла, и мне безапелляционным тоном заявили, что два курса
ИФЛИ приравниваются к учительскому институту, о чем мне будет выдана бумага.
И я обязана отработать два года по распределению. В городе Барнаул Алтайского
края. Совершенно сбитая с толку, я расписалась и получила диплом со специальностью
«учитель истории и географии неполной средней и средней школы». И даже
подъемные.
Какая же я была идиотка! Ведь я была нужна им чисто для
галочки. Для имитации деятельности. А я решила... Впрочем, что я решила?..
Я плакала. Потому что в Москву возвращалась жизнь, а что ждало меня там?
Но я решила ехать, потому что наш госпиталь становился тыловым, а на фронт
меня не брали. Даже повторить то, что сделал Муня Люмкис, я не могла -
скрыть от врачей глазной протез было невозможно.
Мы с мамой стали собираться. Единственным моим утешением
была мысль, что в Барнаул мы сможем взять Леньку - в Москву его бы без
пропуска не пустили. Ленька был в это время в Свердловске, куда его все-таки
вывезла семья Менделя, большое ему за это спасибо. Но мы понимали, что
живется Леньке там
не сладко.
Через месяц мы с мамой оказались в поезде Москва-Новосибирск.
На носу начало нового учебного года и нужно было в кратчайший срок осмотреться
на новом месте, найти жилье. Нас провожала Лена Никольская. Через несколько
дней она уходила на фронт.
<......................................>
____________________________________________________________________________________
|