.
V
МИР «ДЕЛОВ»
Конечно, была в этом доме и другая жизнь, помимо
старшей дочери и собиравшейся у нее ватаги; только очень казалась она заслоненной,
и сам Игнац Альбертович говорил о себе и жене и гостях не марусиных: -
Мы - вторая гарнитура... Между тем вышло так, что в дальнейшем ходе разных
ответвлений этой веселой и горькой истории тем «заслоненным» достались
видные роли; надо и их помянуть.
Были «Нюра и Нюта» - мать и дочь; дочь называла
мамашу по имени. Собственно звали старшую даму Анной, а девицу Ноэми -
на библейском имени настоял отец; он же, говорят, очень сердился за то,
что мать и дочь, хотя бы неофициально, слывут как будто тезками наперекор
еврейской традиции; но с ним мало считались, человек он был застенчивый,
молчаливый, л часто уезжал по делам. Нюра и Нюта не только себе клички
придумали похожие - они и одевались одинаково, и причесывались друг под
друга и всегда были неразлучны. Кажется, они и губы подкрашивали - серьезная
в те годы уголовщина. «В Нюре с Нютой есть что-то порочное», уверяла Маруся;
а Сережа их, напротив, защищал следующим образом: «Ничего подобного, просто
дурака валяют»; причем этот обмен мнений произошел в присутствии самих
Нюры и Нюты и моем и еще всякого разного народу, и никто не обиделся, только
мать и дочь, сидевшие рядом, повернули друг к другу лица под одним и тем
же углом и улыбнулись друг дружке одной и той же стороною губ. - Дочери
было, вероятно, лет двадцать пять, она формально считалась приходившей
к Марусе (у которой вообще бывало много и женской молодежи); мать ее числилась,
конечно, гостьей Анны Михайловны; но впечатление было такое, будто Нюра
и Нюта, где бы ни были, всегда, собственно, делают визиты друг другу.
Еще бывал там один гость, не разобраться чей;
меня с ним раза три знакомили, пока я его заметил. Был это дальний племянник
Анны Михайловны, уже взрослым юношей прибывший из местечка на Днепре; теперь
ему было, невидимому, лет двадцать восемь, не меньше. Он называл хозяев
«дядя» и «тетя», со всеми детьми был на ты, но этим близость и ограничивалась;
приходил часто, но ни в каких общих затеях, играх, прогулках не участвовал;
все так привыкли к его пассивному присутствию, что оно уже никого не стесняло,
ни хозяев, ни гостей, ни его самого. Я попробовал однажды с ним разговориться,
но успеха не имел; только вынес впечатление, что он и меня и всю компанию
презирает, и вообще мужчина угрюмый и не очень доброжелательный. Фамилия
у него была странная - Козодой; в семье называли его Самойло; он имел звание
помощника провизора и служил в аптекарском магазине, а слова «аптекарский
магазин» произносил оба с ударениями на предпоследнем слоге. Кто то пустил
слух, будто он влюблен в Марусю; но все они были в нее влюблены, и меньше
всего был похож на вздыхателя именно Самойло - кажется, даже не заговаривал
с нею, а на ее редкие обращения отвечал равнодушно и деловито, не поощряя
к продолжению беседы. Еще помню: говорили, что он о своем ремесле держится
очень высокого мнения и называет себя не фармацевт, а фармаколог; Сережа
это выговаривал: «фармаколух».
Затем помню еще двух родственников, между
собою братьев, совсем пожилых; старшего звали Абрам Моисеевич, второго
Борис Маврикиевич, и это различие в стилизации одного и того же отчества
определяло многое в их несходной натуре. Старший, старик богатый, любил
щеголять первобытной своей неотесанностью. Все ходячие престарелые словечки
и остроты на эту тему я слышал от него. «Образование?» - говорил он, вытаскивая
бумажник: «вот мое образование». Или: «Убеждения? вот...». Или: «Что, Игнац,
твой Марко опять остался на второй год? Это ты дурак, а не он. Мой Сема
тоже лентяй, но я что делаю? .Перед экзаменами встречаю в клубе его директора
и говорю прямо: г. Суббоцкий, держу с вами пари на пятьсот, что мой сын
опять застрянет. - И дело в шляпе». Брата своего Бориса Маврикиевича он
терпеть не мог, всячески ему досаждал; за глаза называл его «этот шмендрик»,
а в глаза на людях не Борис, но «Бенреш».
Борис Маврикиевич был всего лет на пять моложе,
но воспитан был или сам себя воспитал совсем по иному. Выражался правильно
по-русски, а оттенки акцента сглаживал тем, что в присутствии русских старался
говорить басом (это, говорят, помогает). Много лет назад, принимая грязевые
ванны на Хаджибейском лимане, он познакомился с писателем Данилевским;
тот ему подарил на память свой роман «Девятый вал», и Борис Маврикиевич
оттуда всегда цитировал места, подходящие к теме данной беседы. Более того:
когда в кредитном обществе, где он и брат его Абрам Моисеевич оба состояли
членами правления, появился вдруг некий строптивый пайщик и произвел не
помню какой скандал в годовом собрании, - я сам слышал, вот этими ушами,
как Борис Маврикиевич о нем отозвался: «Это Робеспьер какой то; кончит
тем, что и его какая-нибудь Шарлотта застрелит в бане». Росту он был богатырского,
грудь носил колесом; раз я встретил его на Дерибасовской, в сизой крылатке
вроде офицерской, а на голове у него была самая подлинная дворянская фуражка
с красным околышком, и общий эффект был отменно православный. Он носил
бакенбарды в полщеки, а подбородок брил ежедневно, с синевой, и по пятницам
приходила к нему маникюрша.
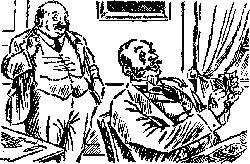
В клубе он играл в винт исключительно с чиновниками - тут то и
любил старший брат подойти и сказать во всеуслышание: «Бейреш, пора домой,
твоя жена Фейгеле беспокоится», - а тот был холостяк, и никакой Фейгеле
и на свете не было.
Смешили они меня до умору; но в одном должен
признаться
- эти двое, и с ними еще Игнац Альбертович, первые мне показали то,
что потом в жизни много раз еще подтвердилось: что гораздо любопытнее говорить
с купцами, чем с профессиональными интеллигентами. В естественном кругу
моем я встречался больше с литераторами и адвокатами: потолковав о книгах,
больше не о чем бывало нам беседовать, разве что рассказывать анекдоты
судебные или редакционные. Но когда те три «хлебника», уставши от вечной
игры в очко и в шестьдесят шесть, клали локти на стол и начинали пересуживать
свои биржевые дела, я невольно заслушивался, и мне на час открывался весь
божий мир и чем он живет. По тысячам дорог Украины скрипят телеги, хохлы
кричат на волов «цоб-цобе», - это везут зерно со всех сторон к пристаням
кормильца-Днепра, и жизнь сорока миллионов зависит от того, какие будут
в этом сезоне отмечены в бюллетене одесского гоф-маклера ставки на ульку
или сандомирку. Но и эти ставки зависят от того, оправдаются ли тревожные
слухи, будто султан хочет опять закрыть Дарданеллы; а слухи пошли из за
каких то событий в Индии или в Персии, и как то связаны с этим и Франц-Иосиф,
и императрица Мария Федоровна, и французский премьер Комб, и еще, и еще.
Обо всем этом они говорили не вчуже, не просто как читатели газет, а запальчиво,
как о деталях собственного кровного предприятия; одних царей одобряли,
других ругали, и о тех и других как будто что то знали такое, чего нигде
не вычитаешь.
Подтверждалось это мое впечатление также и
тем еще, как тесно подружился с Абрамом Моисеевичем юнейший в доме Торик:
Торик, несмотря на великую свою обходительность со всеми людьми без различия,
не стал бы терять времени на разговоры, лишенные поучительности. Старик
у него просиживал часами: хотя у Марко с Сережей была комната общая, Торику
отвели, конечно, отдельную. Раза два и я напросился третьим в их беседу;
в самом деле, занимательно и сочно рассказывал старик о Севастопольской
кампании, о смерти Линкольна, о парижской коммуне, о Скобелеве, о процессе
Желябова, о Буланже и тому подобных явлениях из хроники черноморской хлеботорговли.
Но помню, что больше всего при этом мне импонировал не Абрам Моисеевич,
а Торик; еще точнее - не сам Торик, который слушал и молчал, а его комната.
Она была вся заставлена книгами, отражавшими разные стадии его духовного
развития. «Задушевное Слово», «Родник», «Вокруг Света» и так дальше до
ежемесячника «Мир Божий» - все в сохранности, в комплектах, в переплетах;
русские классики; целая полка Biblioth que
Rose и всяческих Moreeaux Choisis; даже, к моему изумлению, «История» Греца,
единственная книга еврейского содержания во всем доме. Письменный стол
содержался в порядке; правильным столбиком лежали школьные тетради в голубых
обложках, из каждой свешивалась цветная ленточка, приклеенная облатками
и к обложке, и к промокашке; на стене висело расписание уроков...
que
Rose и всяческих Moreeaux Choisis; даже, к моему изумлению, «История» Греца,
единственная книга еврейского содержания во всем доме. Письменный стол
содержался в порядке; правильным столбиком лежали школьные тетради в голубых
обложках, из каждой свешивалась цветная ленточка, приклеенная облатками
и к обложке, и к промокашке; на стене висело расписание уроков...
А однажды случилось так: Анна Михайловна,
когда мальчиков не было дома, попросила меня принести ей словарь Макарова
с полки у Торика, но я ошибся дверью и попал в комнату, где еще никогда
не был. Полагалось бы сейчас же отступить, но я про это забыл, так меня
разом удивила обстановка и атмосфера той комнаты. Словно из другого дома:
железная кровать, два некрашенных стула, облупленный умывальник, на нем
гребешок, мыло и зубная щетка и больше ничего. На столе валялись книжки;
заглавий я не мог прочесть с порога, но узнал их по формату - эту словесность
тогда просто называли «брошюрами», и о том же ходе мысли говорил прибитый
кнопками к обоям портрет Лассаля. Подивившись на все это, я закрыл дверь,
разыскал у Торика словарь, понес его Анне Михайловне и в коридоре встретил
Лику: глядя прямо перед собою, она тщательно отвела плечо, чтобы я как-нибудь
не задел ее за форменный темно-зеленый рукав, и прошла в ту комнату к себе.
<.............................................>