.
X X I
ШИРОКИЕ ЕВРЕЙСКИЕ НАТУРЫ
Тускло и неуютно было теперь в доме у Анны
Михайловны. Игнац Альбертович начал заметно горбиться; говорил, что так
сказано где то в мидраше - или, может быть, в изречениях старых волынских
мудрецов: у человека две матери; одна - его родная мать, а вторая - земля.
Покуда мал, он слушает голос первой, но она выше его ростом, и оттого он
все подымает голову; когда подходит старость, начинает с ним беседовать
вторая, и к ее шопоту надо прислушиваться наклоняясь. Анна Михайловна за
то не пыталась объяснить свою все густевшую проседь. Сумно было в доме,
гости приходили только пожилые; даже Нюра и Нюта являлись реже редкого
- Сережа без Маруси перестал собирать у себя друзей и после ужина часам
к десяти уходил на свободу, а степенный Торик сидел у себя за книгой.
Начали портиться у Игнаца Альбертовича и дела.
Слишком ли часто закрывал падишах Дарданеллы, или Херсон, углубивший недавно
днепровские «гирла», и Николаев у широкого устья начали обгонять сухую
Одессу, или другая причина - только заметно стала пустеть Карантинная гавань,
поредели и дубки на Платоновском молу и на Андросовском, и тысячный гомон
маклеров и на бирже, и на тротуарах перед Робина и Фанкони (эту незаконную,
но главную биржу все называли «Грецк»), если не утих, то зазвучал тревожно.
За столом у Игнаца Альбертовича по вечерам все ворчливее ссорились Абрам
Моисеевич с Борисом Маврикиевичем; старшего брата особенно раздражало новое
слово «конъюнктура», которое «Бейреш» вычитал в передовице моей газеты
и произносил своеобразно, вроде «кунтатурия»; сам же он, старший брат,
во всей беде винил «банки».
- Эх, молодой человек! - говорил он мне, -
посмотрели
бы вы, что творилось на Днепру лет тридцать тому назад, когда только
и было два царя от порогов до нашего элеватора: Вебстер-Коваленко - один,
а другой, еще важнее - «Русское Общество». Едет себе вверх на колесном
пароходике от Херсона такой еврей Ионя, главный скупщик «Ропита»; борода
черная, очки золотые, живот как полагается.
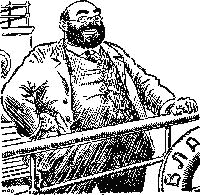
Едет, как цадик у хусидов, пятьдесят человек свиты - бухгалтеры, лапетуты,
пробирщики и так себе дармоеды. Всю дорогу дают чай, а то можно и по стаканчику
водки с пряником; и до трех часов ночи играют в шестьдесят шесть - что
вы думаете, по пятьсот карбованцев проигрывали; я сам знал идиотов, что
даже платить платили! А мимо бегут пристани - Большая Лепетиха, Малая,
Берислав, Каховка, Никополь, аж до Александровска. На каждой пристани еще
за три часа до приезда Иони сам губернатор не протолкается: агенты, маклера,
перекупщики, биндюжники, чумаки,
вся площадь завалена мешками, позади волы и возы. Вы что думаете, Ионя
ночь не спал, так он усталый? Как увидит пристань, он кричит матросу: Юрка,
сюды - качай! Сам подсунет голову под «крант», Юрка давай накачивать воду,
пол Днепра выльет ему на лысину, и опять Ионя хоть на свадьбу готов. Стоит
на палубе и еще издали кричит: - Наше вам-с, Ставро Лефтерьевич, как живете?
вижу, пополнели, летом вместе в Мариенбад поедем. - Гей, Куролапченко,
- что мне в Каховке сказали, опять уж у тебя дочка родилась? Седьмая? Окрести
ее Софья - пора сделать «соф»! - Шулем-алейхем, мусью Гробокопатель; швыдко,
ты Гамалию-ротозей, видчиняй гамазей! (Это магазин по-хохлацки).
- Для каждого доброе слово, а те стоят и смеются, руки целовать готовы...
Был Днепро, а теперь извините. - Банки!
- При чем банки, однако?
- Стали позычать деньги всякой мелюзге; против
«Ропита» и Вебстера с Коваленкой развелась целая хевра куцого сметья
- «господин экспортер», а на нем штаны с бахромою, и то дядькины. Самим
нечего есть и большим тоже не стало ни воды, ни воздуха. Умирать надо,
Игнац Альбертович; только ты, пожалуйста, Бейреш, помирай первый.
Неуютно стало и вообще в Одессе. Я не узнавал
нашего города, такого еще недавно легкого и беззлобного. Ненависть его
наводнила, которой никогда, говорят, не знала до того метрополия мягкого
нашего юга, созданная ладной и влюбленной хлопотнею, в течение века, четырех
мировых рас. Вечно они ссорились и в голос ругали друг друга то жульем,
то бестолочью, случалось и подраться; но за мою память не было настоящей
волчьей вражды. Теперь это все переменилось. Исчез первый знак благоволения
в человецех - исчезла южная привычка считать улицу домом. Теперь мы по
улице ходили с опаской, ночью торопились и жались поближе к тени...
Дело, впрочем, было теперь не в одной племенной
распре. Когда все мы, два года назад, читали о первых героических налетах
из подполья на конвои казенного золота, никто не подозревал, до чего постепенно
демократизируется эта система финансирования безденежных начинаний. Теперь
она в Одессе кратко называлась «экс» и применялась уже просто и открыто
для пополнения личной кассы налетчиков. Первое время, подкидывая письмо
с угрозами или подставляя револьвер, они еще ссылались на какую то непоименованную
«партию»; но вскоре и это бросили и стали просто грабить без вуали. В смысле
размаха аппетитов отличались спартанской скромностью: хоть и были еще редкие
попытки сорвать толстый куш с отдельного пугливого богача, но обычным типом
«экса» был визит вдвоем в бакалейную лавочку и конфискация утренней выручки
в размере двух рублей с копейками. Всего любопытнее было то, что свирепствовал
«экс» у нас в городе только среди евреев: евреи были все объекты его, жирные
и тощие, и, как божились потерпевшие, все без исключения субъекты. «В два
кнута хлещут еврейскую массу», меланхолически писал мой коллега по газете,
фельетонист на серьезные темы: ночью, дубинками, чужая сволочь, днем своя.
Редакционный служитель наш Абрам доложил,
что спрашивает меня студент, а назвался он Виктор Игнатьевич.
Торик вообще мало к кому ходил, а тут у меня
был в первый раз. Я понял, что дело важное, и велел Абраму никого не пускать
в приемную. Дело оказалось и в самом деле нешуточное, но по началу скорее
даже смешное. Торик изложил его систематически, в порядке хронологии событий
и открытий, одно за другим, не забегая вперед, а подталкивать его не полагалось:
очень солидный, благоустроенный юноша был Торик.
У Абрама Моисеевича состоялся вчера «экс».
Явились к нему на дом два молодых человека, один вида простонародного,
другой «образованный», предъявили бумажку со штемпелем и два «пистолета
с вот такими барабанами» и потребовали пять тысяч, а не то - смерть. Он
посмотрел на них, подумал и спросил:
- Откуда вы узнали, что я в городе? Я вчера
только вернулся из Мариенбада.
Юноши гордо объяснили, что комитету все известно:
такова система слежки.
Он еще подумал, вдруг рассмеялся и сказал
им:
- Слушайте, молодые люди: хотите получить
не пять тысяч, а пятнадцать? Пойдите к моему брату Бейрешу, покажите ему
эти ваши пулеметы и возьмите с него десять. После того приходите ко мне:
если покажете мне его десять тысяч, я вам тут же вручаю мои пять.
Они вытаращили глаза; конечно, заподозрили,
что пошлет за полицией. За совет спасибо, к «Бейрешу» пойдут, но деньги
на бочку моментально.
- Э, - ответил он, - когда с вами говорят,
как с людьми, не будьте пархами. Мое слово - слово. Каждый банкир в Одессе
на мое слово даст пятьдесят тысяч без расписки, а тут два смаркача. Убирайтесь
вон или делайте, как я велю. Ваши пистолеты? чихать я на вас хотел; бомбах
я не боюсь (наиболее характерные места его рассказа Торик передавал и грамматически
дословно). А вот если сделаете мне удовольствие насчет Бейреша, так это
«да» стоит пяти тысяч: пожалуйста.
Они пошептались в углу и решили, что надо
запросить «комитет» по телефону. Простонародный тип увел его в другую комнату
и запер за собою толстую дверь, а образованный остался телефонировать.
Через десять минут он их вызвал обратно и сообщил решение комитета: согласны,
только вот он должен с вами остаться в комнате, пока я вернусь от вашего
брата Бейреша.
- Можно, - сказал Абрам Моисеевич. - Он сигары
курит? Я привез отличные - «что-нибудь».
Так и просидел простонародный с Абрамом Моисеевичем
два часа, курил сигары, и понемногу дружески разговорились. Рассказал,
что он совсем не жулик, а человек порядочный и хороший еврей, участвовал
в самообороне 1905-го года, даже целую дружину привел с собою, и здорово
они тогда в октябре после манифеста поработали. (В этой части рассказа
я перестал улыбаться: мне что то начало мерещиться недоброе). - Словом,
через два часа вернулся образованный и показал десять тысяч;
Абрам Моисеевич сейчас же открыл несгораемый шкаф, спокойно вынул оттуда
кучу бумажек, при них отсчитал пять тысяч, потом подумал и прибавил шестую;
при них спрятал остальное - им даже в голову не пришло помешать - и закрыл
сейф.
- Идите с Богом, - отпустил он их, - кончите
Сибирью, но меня вы порадовали.
Сейчас же после того Абрам Моисеевич вызвал
к себе Торика и представил ему следующие соображения. Во-первых, очень
странно, что они пришли к нему сейчас же на завтра после его приезда из
Мариенбада: кто мог им это сказать? Во-вторых, они даже не спросили у него
адреса «Бейреша»: а тот тоже всего неделю назад переехал на новую квартиру.
В третьих, простонародный его собеседник, хвастаясь подвигами и передавая,
как его хвалили организаторы самообороны, обмолвился, что зовут его Мотя
- а это имя Абрам Моисеевич как то где то слышал. Наконец, когда они шептались
в углу, ему показалось, что расслышал он еще одно имя.
- Сережа?!
- Не совсем так, но еще хуже: «Сирожка». Улики
слабые, как видите; но Абрам Моисеевич верит в свою интуицию. «Я», говорит
он, «сам старый конокрад, и уж по тому одному, как уведена кобыла, знаю
нюхом, кто увел». Он голову дает на отсечение, что звонил образованный
не в «комитет», а по телефону 9-62.
Торик и сам произвел дома небольшое дознание.
Сережи не застал, но осторожно расспросил горничную. Она сказала, что около
одиннадцати утра паныча Сергеи Игнатьича вызывали по телефону, и он ее
тогда выслал из отцовского кабинета, где она вытирала пыль, и запер двери.
Рассказал мне Торик эту повесть так, что я
невольно любовался, хоть и не до того было. Ровно столько огорчения, сколько
нужно было, и ровно столько юмора, сколько можно при данной степени огорчения.
Ни одного осудительного слова против брата: словно шла речь о больном человеке,
которого лечить надо, а не судить. А ко мне пришел затем, что для Сережи
я, когда нет Маруси, единственный, который...
<.............................................>
|