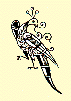РУССКИЙ СТРАННОПРИИМНЫЙ ДОМ
Минуты за три доехали в такси от автостанции
до недостроенной стены, ограждающей русскую землю в арабской части Израиля,
на пространстве древней Иудеи, прежде - земли Ханаанской.
Далеко по холмам и долинам раскинута панорама
древнего города. Он лежит на высоте более тысячи метров над уровнем Средиземного
моря, и в прозрачные дни с горы, на которой стоит храм, можно видеть синее
мерцание воды у горизонта.
Храм огромен и похож на крепость с каменной
кладкой, способной выдержать удары осадных орудий. Полукруглый выступ апсиды,
прямоугольная башня-звонница... зубцы по верхнему краю стен, высоко вознесенный
на мощном барабане купол с крестом.
- Как-то ночью арабы водрузили на башне свой
флаг... - усмехается отец Иоанн. - Утром явились израильские полицейские
- требовать, чтобы флаг немедленно убрали. Георгий говорит: «Мне восемьдесят
лет, я не могу лезть на стену. Кто его поднял, пусть и снимает...» А кто
его поднял? Полицейские привели местных жителей, кто подвернулся, поставили
к стенке, через час флага не было. Так и живем - между двумя станами, под
перекрестным огнем.
Идем вниз по склону мимо часовенки с синим
куполом, мимо тонких дубков, поднимаемся по ступеням к дому. Отец Иоанн
звонит и, не сразу, но отворяется обитая металлом дверь. Монах лет тридцати,
темноглазый и темноволосый, приветствует нас, и вслед за ним мы входим
в просторную комнату с высоким потолком и раскрытыми на балкон застекленными
створками дверей и окон.
- Это афонский инок Николай... - представляет
отец Иоанн. - Завтра он именинник.
Другой человек, постарше, со шрамом, переходящим
со лба на щеку, невысокий и плотный, в пестром шерстяном свитере, протягивает
руку:
- Евгений...
- Вы из России? - предполагаю я.
- Давно... - бодро улыбается он. - Мы все
здесь давно из России.
Отец Иоанн спрашивает, где Георгий, но почему-то
ему не отвечают.
Все вместе мы выходим на балкон. Дом стоит
на склоне горы, он двухэтажный и по толще каменных стен, высоте и протяженности
тоже напоминает крепость. Внизу - огромное пространство пустой земли, частично
вспаханной, и у края ее полоса пожухших виноградников.
Так эту землю купил в 1868 году знаменитый
архимандрит Антонин Капустин, начальник Русской Духовной миссии в Иерусалиме...
Тогда невозможно было приобрести участок в этих местах, издавна заселенных
мусульманами, но и смириться с тем, что православным не было доступа к
Мамврийскому дубу архимандрит Антонин не мог. Много лет вел тайные переговоры,
собирал пожертвования русских богомольцев, - ни правительство, ни церковь
не поддерживали его желания приобретать землю в Палестине. Наконец за три
тысячи франков купил участок с дубом на имя своего верного сподвижника,
православного араба, драгомана русского консульства Якова Халеби - в Хевроне
он выдал себя за купца из Сирии. А потом миссия скупала соседние мелкие
участки, и к концу прошлого века ей принадлежало здесь семьдесят гектаров.
- Сколько эта земля стоит теперь?
- Не могу и представить... - отвечает отец
Иоанн. - Миллионы...
- Слава Богу, что не было на нее прав у советской
власти... - усмехается Евгений. - А то Хрущев продал бы ее за апельсины,
как русское подворье в Иерусалиме... И участок в центре Назарета подарили
израильским коммунистам: подкармливали, чтобы они лучше плодились на Святой
земле...
- Арабы узнали, что их Ибрагим продал землю
в Хевроне православным, устроили бунт, - возвращается отец Иоанн к месту
действия. - Ибрагима убили. Даже подожгли дуб - одна ветвь сгорела. Грозили
сжечь дом. И пока он строился - шесть лет, пока обносили участок стеной
высотой в четыре метра, много пришлось претерпеть. Ночью арабы растаскивали
стены по камню, разворовывали все, что под руку попадалось - доски, цемент...
впрочем, как и теперь. А дом этот открыли для паломников в 1874 году -
ему теперь сто двадцать лет. Был здесь роскошный виноградник, фруктовые
деревья, огород...
Евгений оставил нас, а отец Иоанн продолжал
с мягкой улыбкой:
- Когда я приехал сюда впервые, отец Игнатий
встречал паломников с авраамовым гостеприимством. Сам ездил на базар, закупал
продукты ящиками. Чего-то всегда не хватало, что-то портилось... Георгий
при нем пономарил, звонил в колокол, убирал храм, готовил, как умел. Электричества
не было, водопровода не было, воду, чтобы стирать и мыть посуду, грели
на керосинке. В доме убирать не успевали: отец Игнатий всех сразу отправлял
в церковь. А служили каждый день по полному монастырскому чину. Когда заканчивали,
ни у кого сил не оставалось... К праздникам заранее приезжали сестры из
Гефсимании, из Елеонского монастыря, готовили, убирали храм и дом. В нижнем
этаже - огромные комнаты, на пол настилали солому и располагались на ночлег...
Он долго молчал, улыбка неприметно погасла,
сменившись привычным выражением отъединенности, погруженности в себя. Я
слушала его с благодарной наполненностью, и это было похоже на то, как
ты поднимаешься в гору, а вокруг раскрывается светлая даль.
- А потом?.. - Отец Игнатий умер в восемьдесят
шестом году, - вот уж я не думал раньше, что сам его сменю... После рукоположения
служил здесь три года... - Он говорил теперь как будто через силу, без
прежней безоглядности, словно взвешивая слова на ладони и отбирая их. -
Тут началось особое время, всего не расскажешь... В Хевроне сейчас триста
тысяч жителей - все мусульмане. Если идешь по улице, и в тебя бросают камень
- это в порядке вещей...
- В вас бросали камни? - у меня прервалось
дыхание.
- Это обычное дело... - тихо отозвался он.
- Потом стреляли... Несешь мешок с хлебом на неделю, вдруг мимо виска пролетит
пуля... То ли стреляли мимо, то ли плохо прицелились...
- Но как вы служили? Они ведь всегда могли
войти в храм?
- Храм всегда заперт...
- Вы служите в запертом храме? А как же прихожане?
- Какие прихожане... в городе нет ни одной
православной семьи. И паломников почти нет - прежних русских остается все
меньше, а «новые русские» занимаются тут другими делами...
Теперь по-иному я видела жесткий профиль моего
собеседника, резкую складку у рта, его затрудненность в общении, которую
я принимала за нелюдимость. Сопоставила какие-то даты - ему оказалось тридцать
восемь лет, а выглядел он гораздо старше.
Но близок, должно быть, Господь к побиваемым
за него камнями...
Мы стояли, облокотившись на перила и глядя,
как тусклый шар солнца погружался в знойное марево. Красный закат подчеркивал
контуры зданий, минареты, макушки холмов, проступал сквозь мглу и дымы,
и внизу, у края нашей земли - сквозь ветви священного дуба.
Впервые упоминают об этой земле уже двенадцатая
и тринадцатая главы книги Бытия.
И сказал Господь Аврааму: пойди из земли
твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу
тебе;
и Я произведу от тебя великий народ, и
благословлю тебя...
...И благословятся в тебе все племена земные.
И пошел Авраам, как сказал ему Господь.
А было Аврааму семьдесят пять лет, но он не
сказал: «Поздно, Господи... куда мне идти на закате лет?»
И взял Авраам с собою Сару, жену свою.
Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей,
которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую...
И пережив голод в Египте, разделившись с Лотом
в окрестностях Иордана, по новому зову Божиему двинул Авраам шатер,
и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал там жертвенник
Господу.
К этому началу Священной истории тысячелетиями
обращены взоры избранного народа, святых отцов, богословов, апостолов:
Верою
Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие,
и пошел, не зная, куда идет.
Спускаемся по склону, отец Иоанн отпирает навесной
замок, открывает калитку, и мы входим за ограду.
Вот он - последний потомок дубравы Мамре,
древнейший на земле Палестины, а может быть, и на всем Востоке, патриарх
дубов, воспетый в богослужебных текстах, в стихах и прозе, запечатленный
на тысячах рисунков, гравюр, в иконах...
Вековые священные рощи, дававшие благословенную
тень, были у многих восточных народов: в Мекке еще в прошлом веке увешивали
трофеями старую смоковницу, на развалинах Вавилона почитали дерево на месте
висячих садов, в Дамаске - платан, в Сирии - исполинские кедры. Наверное,
в почитании их хранится память о древе жизни, насажденном посреди рая,
к которому утратило доступ падшее человечество. И, действительно, израильские
арабы считают, что рай был в хевронских долинах, и здесь погребены Адам
и Ева. Даже Цблаженный Иероним упоминает об этом, а толкователи Талмуда
помещают гробницу Адама в той же пещере Махпела, где погребен Авраам.
Мамврийская дубрава простиралась далеко на
северо-запад - с древнейших времен в ней была станция караванной дороги
в Египет, и император Адриан продавал здесь египетским купцам пленных евреев
по мере пшеницы за человека. Иосиф Флавий упоминает о Мамврийском дубе
в шести стадиях от Хеврона.
В первые века дубрава была местом языческих
празднеств. И историк Евсевий приводит послание императора Константина
к епископу Макарию: «Мы знаем, что место у Мамврийского дуба, где обитал
Авраам, омрачено идолопоклонством, и для того я повелел... без отлагательства
предать идолов огню и испровергнуть их алтари. А дабы впредь оградить это
место от поругания, мы определили и повелели украсить его великим храмом.
Всем известно, что там впервые Бог Вседержитель явился Аврааму и беседовал
с ним; там возникло начало священного закона и соблюдение его...»
И еще в прошлом веке арабы показывали под
сенью деревьев христианские развалины, - историки отождествляли их с руинами
храма Константина.
А наш паломник XII века игумен Даниил с восторгом
пишет: «Есть же дуб той святый у пути близ на правой руце, тамо идучи,
стоит на горе красно вельми... И ту стоял шатер Авраамов близ дуба того
же, к востоку лиц. И есть же дуб той святой не вельми высок, но раскидист,
и часты ветви имущ, и плоду много на нем есть; ветви же его близ земли
приклонились. В толще же есть дву сажень, моею рукою измерих его, а вверх
до ветви полуторы сажени есть. Дивно же и чудно, колико лет есть тому дубу
святому на высоцей горе не вредися, ни гнилости на нем нет, но стоит
от Бога утвержен, яко теперь посажен...»
С тех пор дуб сильно разросся, и паломники
прошлого века измеряли его восемью саженями в обхвате, а по окружности
листвы - ста двадцатью шагами.
Мы стоим под могучей, но уже единственной
зеленой ветвью. И первое чувство прикосновения к священному растворяется
тихой болью. Огромный наклонившийся ствол срезан поверху, топорщится сухими,
корявыми, обожженными и обломившимися разветвлениями. Большие дупла залиты
цементом, еще живая ветвь подпирается двумя рельсами, а понизу каменная
кладка зажала старый ствол.
Под этими некогда раскидистыми ветвями наши
«поклонники» по прибытии устраивали скромные трапезы. На старых картинках
можно видеть и треугольный навес по сторонам ствола, под ним - икону Троицы.
Богомольцы собирали желуди и кусочки коры, срезали на память веточки, палки
для посохов, а от исполина как будто ничего не убывало. И вот на восемьдесят
лет оскудел поток паломников, и дерево стало сохнуть. Одинокая ветвь давно
не дает прохлады в часы полуденного зноя, а странники предвещают, что когда
она засохнет, кончится история мира. Так и будет - если принять этот древний
дуб, как зримый символ веры...
Мы обходим ствол по кругу, и я могу коснуться
рукой и губами его старой отслаивающейся коры. Земля вокруг вскопана, усыпана
ржавыми листьями. Хевронский дуб, - не теревинф - палестинская разновидность
каменного дуба. Листы его мелки, узки, обведены по краю колючими зубчиками,
а жесткая глянцевая ткань листа испещрена черными точками. Стоит декабрь,
но листья не опадают всю зиму, только зелень тускнеет и ярче подсвечивается
желтизной. У края участка я собираю желуди, тоже непохожие на наши - в
больших мохнатых и колючих шапочках, - но они от молодых потомков дуба,
толпящихся у ограды.
Ограда из металлических прутьев, заостренных,
как пики, продлена вверх сеткой из колючей проволоки, и еще печальней выглядит
одинокий патриарх за решеткой...
И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда
он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного.
Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три
мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер
свой и поклонился до земли,
и сказал: Владыка! если я обрел благоволение
пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего;
и принесут немного воды, и омоют ноги ваши;
и отдохните под сим деревом,
а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца
ваши; потом пойдите в путь свой; так как вы идете мимо раба вашего.
Рабом Божиим называет себя Авраам, но арабы,
в VII веке захватив город, переименуют Хеврон - в Эль-Халиль, град друга
Божия. И этому призванному и верному Господь скажет:
...Утаю ли Я от Авраама, раба Моего, что
хочу делать!
От Авраама точно произойдет народ великий
и сильный, и благословятся в нем все народы земли,
ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал
сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду
и суд...
Почти столетнему Аврааму, поверившему Богу
и принявшему волю Его, Господь обещает сына от состарившейся прекрасной
Сарры, неисчислимое, как звезды, потомство и вечное духовное наследие в
тех, кто пойдет по путям Господним.
...Авраам поверил Богу, и это вменилось
ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.
И ему открывает Бог самое непостижимое Свое
имя. Три мужа стоят перед Авраамом, но он обращается к ним словом «Владыка»,-
здесь, у Мамврийского дуба впервые явлена тайна Бога как Троицы Единосущной
и Безначальной.
И дивные слова молитв из троицкой вечерни,
когда в церкви пахнет увядающей листвой берез и цветами, а народ преклоняет
колени на охапки зеленой травы, прошли в моей памяти, и в ней растворились,
как в воздухе свет закатный: «Благословен еси, Господи Владыко Вседержителю,
просветивый день светом солнечным и нощь уяснивый зарями огненными, долготу
дневную пройти нас сподобивый и приближитися начаткам нощи. Остени нас
святыми Твоими Ангелами... огради нас истиною Твоею...»
Перед литургией Троицы в мои тридцать пять
лет надо мной повторили таинство Крещения. Всю жизнь я считала себя крещеной,
и родилась в деревне, росла у верующей бабушки, и день именин совпадает
со днем рождения, но вдруг однажды я ужаснулась, подумав, что никто не
говорил мне о моем крещении, и уже некого спросить. Тогда священник сказал,
что есть такой чин, по которому совершается таинство заново с этой условной
формулой: «если не крещена была». С той Троицы запечатлелись в сердце запах
подсохшей травы в храме, эти молитвы коленопреклонения на вечерне, летучий
жар от горящих при солнце свечей, разлитый благословенный свет. Его сияние,
мерцание я узнавала потом в Троице Андрея Рублева - в образах трех Ангелов,
сидящих под Мамврийским дубом в великом безмолвии и торжествующей красоте
озаренного мира...
Отец Иоанн сразу пошел в храм - готовиться
ко всенощной и литургии, убирать алтарь после долгого запустения. К ужину
появился отец Георгий, единственный хранитель священной обители, маленький,
со светлыми взлохмаченными волосами и покрасневшими глазами - в сильном
подпитии. Говорят, запил он после смерти отца Игнатия, когда остался один
на этом пустынном островке в окружении мусульман. После революции прекратился
поток паломников из России, с начала интифады - и из других стран. Бедный
монах плакал и просил, чтобы прислали священника, но после отца Иоанна
никто не мог вынести образа жизни, который десятки лет претерпевал старевший
вместе с дубом, надломившийся русский странник.
- Бывший власовец... - тихо сказал Георгий,
пока тот кружил по трапезной, входил и выходил. - Какая судьба... Сначала
родина бросила его в окружении, потом Церковь оставила здесь одного...
- Он - священник?
- Нет, просто монах... - чин кающегося. Лет
сорок уже монах, но сана не принимает. Говорит, свои бы грехи отмолить,
куда уж чужие на себя взваливать.
Георгий говорил пустое за столом, и обижался,
когда ему предлагали рыбную котлету и когда ее не предлагали, и вилка дрожала
в руке, а в виноватой улыбке было сознание его непоправимой беды. Вскоре
его отправили спать и с облегчением вернулись к чаю.
Закрыли сплошные металлические ставни, и сразу
наступила ночь, разреженно освещенная лампочкой без абажура, и глухая тишина.
Разрушая ее, спрашивали меня о Синае, потом о России.
Чувство неловкости часто возникает, когда
эмигранты говорят о нашей жизни: вопросы скользят по поверхности, случайны,
иногда нелепы, и ты понимаешь, что собеседник утратил связь с какой-то
невыразимой сущностью нашего бытия, - у него уже другая, своя боль. Но
инок Николай еще все помнил. Когда я встречала его взгляд, кроткий, внимательный
и печальный, мне казалось, что с детства был он очень ранимым, а в юности
искал осмысления страданий избранного народа, утратившего суть своего избранничества.
Отец его был русский, рано умер; мать - еврейка, увезла его в одиннадцать
лет из страшной коммунальной квартиры в Америку - в семьдесят четвертом
году. После школы он стал келейником у епископа, в двадцать четыре года
уехал на Афон, и был пострижен в рясофор в русском Ильинском скиту. Но
через шесть лет греки совершили разбойное нападение на своих православных
братьев во Христе и захватили скит.
- Когда в 1992 году греки перешли на новый
календарь, мы, как и многие другие монастыри на Афоне, перестали поминать
за литургией Константинопольского патриарха. Нам угрожали, но мы не испугались,
служили по старому стилю, как и Русская Церковь. Конечно, это внешний повод...
Ильинский скит - старинный, с бесценными иконами и церковной утварью...
да это только называется «скит», а по достоинству - монастырь... Греки
давно хотели прибрать его к рукам, как двадцать лет назад богатый русский
Андреевский скит... И тут вдруг без каких бы то ни было прав, без суда
потребовали, чтобы мы выехали в течение двух месяцев. Ну, календарные споры
- спорами, но не основание для грабежа... Никто не предполагал, что они
затеяли. Прошел год. Однажды прибыли на Святую гору два греческих митрополита
как бы на совещание - на нем даже вопроса о нас не поднимали. И вдруг,
бесшумно и безгласно, как тати в нощи, - чтобы мы не стали обороняться,
они появились в скиту с отрядом полиции и представителем губернатора Афона.
- А вы стали бы обороняться?
- Во всяком случае, заперли бы ворота: пришлось
бы им брать нас штурмом. Нас было всего четверо. Архимандрит Серафим в
бессильном гневе назвал этих экзархов иудами и даже коммунистами: они загнали
монахов в кельи, дали час на сборы личных вещей... с полицией вывели, силой
затолкали в машины, потом на пароход - и выпроводили с Афона.
- Но неужели нет никакой управы?
- В том-то и беда... У Русской Зарубежной
Церкви - ни власти, ни государственной поддержки... Мы подали апелляцию
в греческий же суд... его уже почти год откладывают и могут откладывать
еще пять лет. А скит уже предан на разграбление другим монастырям. Говорят,
в первые же дни взломали сейф с драгоценными митрами, начали растаскивать
старинное шитое золотом облачение...
- А если бы скит принадлежал Московскому патриархату,
греки не решились бы на такое?
- Да уж конечно...
Нет мира ни вовне, ни внутри стана верующих
в единого Христа, уже не только христианская, но и православная Церковь
дробится на все более мелкие осколки. Вот еще через один монастырь, еще
через одну судьбу прошел разлом русской Церкви, теперь уже ничем не оправданный.
Сами того не желая, мы упирались в эту тему, как всегда и случалось...
- Как вы думаете, отец Николай, не вечно же
будет длиться этот наш раскол? Ведь у нас нет догматических расхождений...
- Догматических нет...
- А что есть... кроме застарелой вражды и
архиерейских амбиций?
Деликатней было бы обходить эту тему дальней
стороной, чтобы не рассориться, не обидеться и не обидеть, не испортить
праздник. Но тогда в совместном праздновании осталась бы неправда, нельзя
было и приезжать, если не иметь надежды, что мы сможем славить Бога единым
сердцем.
- Политика - не основание для раскола. Да
уже и коммунистический Гулаг распался... - продолжала я.
- Это еще увидим... Хотелось бы, чтобы распался.
Зато церковная верхушка осталась прежней... Наши архиереи говорят: мы не
хотим причащаться из одной Чаши с КГБ... - Он поднял глаза, и в его голосе
появились металлические нотки.
- Вы будто не понимаете, что к Чаше приходят
не комитеты и партии, а люди - всегда грешные. Христос разбойника кающегося
ввел в рай...
- Кающегося! вот речь и идет о покаянии...
- Да не перед вашим же митрополитом должны
каяться наши архиереи... Разве он вправе вершить Страшный Суд? Исповедь
- Таинство, она совершается в глубине души перед Богом... А у вас устраивают
публичное позорище, принимая «через покаяние» наших священников... Я встретила
такого в Сан-Франциско, он рукоположился и уехал в Америку, - ваши архиереи
перед его покаянием даже не сказали, что запрещают евхаристическое общение
с нами... что он отрекается от русского народа... - Я волновалась, решаясь
однажды все выговорить. - Вы читали послание вашего митрополита к нашей
церкви? Что он там пишет... ведь семинаристы в недоумение приходят: что
все наше духовенство безблагодатно, только отдельным «добросовестным» священникам
он оставляет право на благодать... Как это понимать? Дети в воскресных
школах теперь знают, что таинство совершает не священник, достойный или
недостойный, а Сам Иисус Христос через священника... потому оно и таинство,
а не человеческое действо, не обряд. Святитель Иоанн Златоуст пишет: кто
бы ни совершал евхаристию, Петр или Иоанн, здесь священнодействует Сам
Господь, который вчера и днесь и во веки Тот же... Разве у вас это забыли?
Или я чего-нибудь не могу понять?
- Не знаю... Я этого послания не читал...
- отмежевался отец Николай. - А вот когда советская власть признала Израиль,
и начали раздел церковного имущества, из Русской Духовной миссии выбросили
старенького священника... Как вы думаете, он это забудет?
- Да-да, не простит до конца жизни... - это
и есть христианство? Один здешний священник - он через несколько лагерей
прошел и чудом выжил, я к нему с благоговением подошла, - мне сказал: «В
России никого не осталось - все разложились...»
- Ну, это не многие могут так сказать... -
смягчился отец Николай.- Просто боль еще не изжита - сколько людей все
потеряли и погибли в чужих землях...
- А мой дед - дьякон - умер от голода и тифа
в Поволжье в двадцатые годы... в холодной пристройке при закрытой церкви.
Жену его с детьми выгнали на улицу... А когда она умерла, отец - мой будущий
отец - стал беспризорником... И потом всю жизнь его унижали за классово-чуждое
происхождение. Он растерял все, что связывало его с церковью. И я не получила
веры в наследство. И если у эмигрантов отняли родину, у тех, кто остался
- и родину, и Бога, и жизнь... А теперь «белые» архиереи обличают «красную
церковь»... Она, действительно, красная - от крови наших мучеников.
- Это наши мученики... - мягко сказал отец
Николай.
- А наши - палачи? - возмутилась я до нервной
дрожи. - Ваши архиереи, прожившие всю жизнь в Америке, теперь примеривают
терновый венец? А у нас тоже говорят: где они были, когда на Соловках и
в Сибири погибали миллионы православных, священников и монахов?
- Они уходили из России, спасая Церковь!..
- Вот-вот, то же самое говорят те, кто шли
на компромиссы с советской властью... Не люди спасают Церковь, а Церковь
- людей... - не могла уже остановиться я. - У нескольких поколений вытоптали
в душах все священное... и сейчас смешивать с грязью нашу все претерпевшую
Церковь - это, по-вашему, Божие дело? Вы видели хоть одного из наших старцев?
Они ведь и лагеря прошли, и войну, и тысячи погибающих душ вынесли и продолжают
нести на своих плечах из нашего ада... Неужели ваши архиереи вправе им
выносить приговор?
- Старцев, к сожалению, не успел увидеть...
мне было десять лет.
- А я видела и потому верю... И вы поезжайте
и посмотрите... Вы совсем не знаете нашу подлинную, не показную жизнь.
Из этого разговора не было исхода, - линия
раскола продолжалась в наших судьбах.
- Но вот махровый антисемитизм среди православных
в России опять расцветает... - со сдавленной болью бросил отец Николай.
- Это постыдно - отождествиться с теми, кто сжигал евреев в газовых печах...
это позор Церкви. Или это те же граждане в штатском, которые всю страну
залили кровью, теперь встают под церковные хоругви? Опять не они виноваты,
а незримые масоны и безродные космополиты? Шовинизм - это привилегия хамов.
Свастика и церковные хоругви над одной толпой - позор и ужас...
- На это тоже не многие способны... или это
делается, чтобы скомпрометировать церковь...
- А кто убил отца Александра Меня? - включается
Евгений, до сих пор молча слушавший, переводя взгляд с одного из нас на
другого. - Это, конечно, до сих пор не выяснили? Как они не могли выяснить,
куда исчезали миллионы людей и почему они в лагерях умирали...
- Ясно только, что Господь удостоил его мученической
кончины...
- Ваша Церковь теперь тоже новых мучеников
поминает? - подчеркнул Евгений «теперь».
- Теперь - явно, раньше поминала тайно...
А у вас это не праздная ревность? - обратилась я лично к нему. - Или вы
ее тоже мученичеством заслужили?
Потом полоса отчуждения разрослась, и мы перестали
смотреть в глаза друг другу, слова падали в пустоту. В .тягостной напряженности
попробовали заговорить о другом, но ничего не вышло, фальшью повеяло и
тоской. Господи, что это меня опять занесло? От недостатка смирения, от
веры, что можно что-нибудь изменить? Стоило так долго сюда добираться,
чтобы испортить себе и другим праздник...
- И все-таки у меня с трудом поворачивается
язык, когда я говорю «ваша» и «наша»... Я так не чувствую и не хочу к этому
привыкать, некстати выговорила я посреди уже ненужного разговора. - Как
будто дуб, Мамврийский раскололи... раскололи, подожгли, а теперь подпиливают
с двух сторон и обламывают ветви.
- Вас мы не воспринимаем, как человека из
другого лагеря, - с еле приметной улыбкой поднялся отец Николай.
- Спасибо, утешили... - не смогла в ответ
улыбнуться я.
- А теперь «время сотворити Господеви...»
Одевайтесь теплее, в храме холодно.
- Вы не хотели бы рукоположиться и остаться
здесь? - осенила меня счастливая мысль.
- Не знаю, - покачал он головой, - не знаю...
Пока я чувствую себя здесь изгнанником... Здесь тоже?...
Изгнанники, скитальцы и поэты,
Кто жаждал быть, но стать ничем не смог...
У птиц - гнездо, у зверя - темный лог,
А посох - нам, и нищенства заветы...
Да и кто до конца уравновесился в нашем разбитом
вдребезги и все еще раскалывающемся мире?
И где наш общий странноприимный дом?
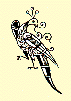
<..............................................>
_____________________________________________________________________________________
|