О.
О. Осетрова
(Днепропетровск)
Ф. М. Достоевский и Э. Дюркгейм
Исследуется сходство и различие подходов к проблеме самоубийства в
творчестве
Ф. М. Достоевского и Э. Дюркгейма.
Этапным моментом исследования проблемы самоубийства в творчестве
Ф. М. Достоевского является работа Эмиля Дюркгейма «Самоубийство». При
компаративном анализе творчества этих двух мыслителей прослеживается сходство
их точек зрения на проблему самоубийства. Для обоих мыслителей характерной
чертой является детерминация акта самоубийства социально-историческими
условиями и обстоятельствами,
что позволяет Дюрктейму выделить три элементарных
типа самоубийств и столько же сметанных. Результаты исследования сведены Дюркгеймом
в таблицу [1].
Этиомологическая и морфологическая классификация
социальных типов самоубийства
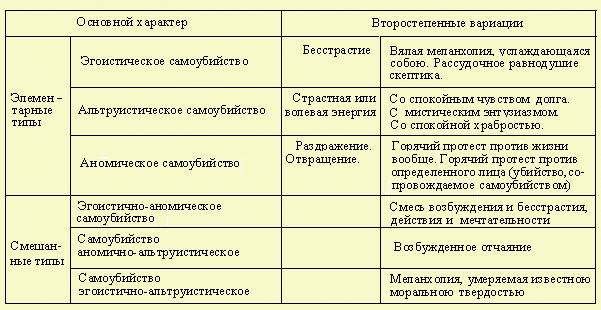
По
мнению Дюркгейма, эгоистический тип самоубийства детерминируется ослаблением
внутренних общественных связей, вследствие которого наблюдается развитие
чрезмерной индивидуализации, когда «индивидуальное «Я» резко противополагает
себя социальному «Я» и
в ущерб этому последнему» [1, с. 105]. В данной ситуации индивид ощущает собственную оторванность от
целого и чувствует себя безраздельно одиноким. Общественные ценности для оторванного от общества индивида
утрачивают свою значимость. Ощущая пустоту, человек обращается внутрь себя, а «с того
момента, - пишет Дюркгейм, - как индивид начинает заниматься только самим собой, он уже
не может думать о том, что не касается только его, и, углубляя это состояние,
увеличивает свое одиночество» [1, С.137]. Сознание такого погруженного в себя индивида начинает работать усиленно, причем
обостряются его аналитические способности. Однако для плодотворного
сознательного анализа необходима информация, поступающая извне, а такая
информация больше данного индивида не интересует.
«Говорят, - отмечает Дюркгейм, - что мыслить - значит удерживать себя от
действия; это значит в то же время и в той же мере - удерживать себя от
жизни; вот почему абсолютное
царство мысли невозможно, - так как оно есть смерть» [1, с. 138]. Эта мысль французского философа
перекликается с размышлениями Достоевского (в лице «подпольного человека»),
заключающимися в том, что «плод сознания - это инерция, то есть сознательное сложа-руки-сиденье» [2, с. 108], что, собственно говоря, есть начало
смерти духовной.
Окружающая индивида, осознанная им внешняя пустота проникает и внутрь него,
вследствие чего «человек может думать, - подчеркивает Дюркгейм, - только о
той пустоте,
которая образовалась в его душе, и о той тоске, которая является ее
следствием» [1, с. 137].
Охватывающая тоска приводит индивида к забвению внутренних преград, за
которыми скрывается небытие, выступающее в подобных случаях хоть чем-то,
обещающее хоть
какие-то перемены и исчезновение ощущаемой пустоты.
Достоевского чрезвычайно впечатляли преступления, направленные против самих
себя, поэтому он неоднократно обращался к данной теме. Так, в «Дневнике
писателя» за 1876 г. Достоевский излагает факт самоубийства семнадцатилетней
дочери А. И. Герцена,
отравившейся хлороформом и оставившей предсмертную записку, содержание
которой в
передаче писателя таково: «Предпринимаю длинное путешествие. Если
самоубийство не
удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресение из мертвых с
бокалами
Клико. А если удастся, то я прошу только, чтоб схоронили меня, вполне убедясь, что я
мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землею. Очень
даже не
шикарно выйдет!» [3, с. 145].
Дюркгейм, с нашей точки зрения, отнес бы вышеупомянутое самоубийство к типу эгоистических. Девушка настолько не чувствует своей связи
с себе подобными, что даже не обеспокоена, пожалуй,
тем, каким ударом будет ее смерть для родных. Она предпринимает «длинное
путешествие», чтобы вырваться из угнетающей ее атмосферы. В предсмертной
записке ни слова нет к близким или знакомым, видимо, потому что для нее
никого
не существует, а есть лишь пустота да тоска, вызванные, как
представляется, бессодержательностью жизни.
Достоевский, анализируя данный факт, задается вопросом и пытается найти
внутренние причины происшедшего: «Это те, слишком известные, судьи и
отрицатели
жизни, негодующие на «глупость» появления человека на земле, на бестолковую
случайность этого появления, на тиранию косной причины, с которою нельзя
помириться?
Тут слышится душа именно возмутившаяся против «прямолинейности» явлений, не
вынесшая этой прямолинейности, сообщившейся ей в доме отца еще с детства. И
безобразнее всего то, что ведь она, конечно, умерла без всякого отчетливого
сомнения. Сознательного сомнения, так называемых вопросов, вероятнее всего,
не было в душе ее;
всему она, чему научена была с детства, верила прямо, на слово, и это вернее
всего. Значит, просто умерла от «холодного мрака и скуки», с
страданием, так сказать, животным и
безотчетным, просто стало душно жить вроде того, как бы воздуху
недостало (Вспомним Свидригайлова, которому также
не достало воздуху.) Душа не вынесла прямолинейности безотчетно и безотчетно
потребовала чего-нибудь более сложного...» [3, 145-146].
Это могло произойти только вследствие разрыва социальных связей, вызвавшего
внутреннее расщепление в конкретном индивиде биосоциальных
элементов: отрыв от
общества, по мнению Дюркгейма, свидетельствует, в первую очередь, о том, что
социальное начало, заложенное внутри нас, как бы теряет свое объективное
существование. Таким образом, индивид начинает ощущать себя существом только
биологическим. Однако присущее ему сознание не может смириться с таким
положением вещей, потому что в
результате его усиленной работы и проводимого анализа, а также поисков смысла
жизни
человек не может согласиться жить чисто биологической жизнью, то есть
удовлетворять
только свои физиологические потребности. Образуется замкнутый круг, из
которого человек неминуемо стремится вырваться. Выход же представляется ему в
виде самоубийства.
Иными словами, логика размышлений оторванного от общества и оказавшегося в
пустоте индивида приводит последнего к твердому решению покончить с собой,
причем этот
выбор не вызывает никаких сомнений: все дальнейшие действия по собственному
уничтожению выполняются четко и методично.
Достоевский неоднократно обращался к анализу подобных фактов. Показательным
является факт самоубийства, описанный в статье «Приговор» «Дневника писателя»
за тот
же 1876 г., отличающийся от первого развернутым объяснением. Главный герой
«Приговора» не просто самоубийца, а логический самоубийца. Однако его
решение
вызвано теми же мотивами, что и решение самоубийц эгоистических (по
Дюркгейму).
Поэтому смело можно сказать, что эгоистическое (по Дюркгейму) и логическое
(по
Достоевскому) самоубийства относятся к одному типу.
Интересно отметить, что одним из главных факторов принятого логическим
самоубийцей решения выступает, по Достоевскому, скука (то же и у Дюркгейма).
Логический самоубийца (как и в случае с дочерью Герцена) не ощущает никаких
связей, соединяющих его с человечеством. Перед нами крайний индивидуалист (по Дюркгейму, крайний индивидуализм непосредственно является
одной из причин, вызывающих самоубийства), для которого, следовательно, беспрекословную
ценность представляет только собственное «Я»: «если выбирать сознательно. - рассуждает герой статьи, - то
уж, разумеется, я скорее пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я
существую, а до целого и его гармонии мне ровно нет никакого дела после того, как я уничтожусь, -
останется ли это
целое с гармонией на свете после меня или уничтожится сейчас же вместе со
мною. И для
чего бы я должен был так заботиться о его сохранении после меня - вот
вопрос?» [4, с. 146].
Будучи одиноким и находясь в стороне от общества, логический самоубийца
лишается
такого качества, как социальность. Видимо, прежде
чем прийти к таким размышлениям,
герой пытался наладить социальные контакты, однако равнодушие общества
вызвало его адекватную реакцию. Равнодушие - это начало смерти: для
равнодушных не существует
никаких ценностей, потому что им все безразлично. Равнодушие и одиночество
повлекли за собою усиленную работу сознания, ставящего постоянно множество
различных вопросов, которые сложны по своей природе и, к тому же, к которым
глухо общество. Отсюда
нарекания героя на присущее человеческому виду сознание: пусть уж лучше,
утверждает
герой, я был бы создан как все животные, то есть живущим, но не сознающим
себя разумно; сознание же мое есть именно не гармония, а напротив,
дисгармония, потому что я с ним несчастлив.
Причины этой дисгармонии мы уже отмечали выше: разрыв биологического
и
социального в человеке. Страдая (этот факт выделял и
Дюркгейм) от бессмысленности окружающего, герой приходит к выводу, что
«задавая, как теперь, себе беспрерывно
вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и непосредственном
счастье
любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это
будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все
человечество - обратимся в ничто,
в прежний хаос» [4, с. 147].
Вышеприведенные рассуждения могли возникнуть только в человеке, не
испытывающем действительной любви к окружающим и не одаренный
ею последними. Общество, для
которого отдельный индивид превращается в нуль, само становится нулем для
этого
индивида. Этому конкретному человеку (герою), в первую очередь, необходимо
живое
общение и ответная любовь. Однако в конкретном обществе, окружающем его вроде
пустоты, нет отклика на его запросы. В такой ситуации «индивид, -
отмечает Дюркгейм, - предоставленный самому себе, не имеет настоящей точки
приложения для своей энергии. Человек чувствует себя ничтожеством в общей
массе людей; он ограничен узкими
пределами не только в пространстве, но и во времени. Если наше сознание
обращено т
олько на нас самих, то мы не можем
отделаться от мысли, что, в конечном счете, все усилия пропадают в том
«ничто», которое ожидает нас после смерти» [1, с. 106], - это та же мысль,
что высказал логический самоубийца.
К эгоистическому
типу самоубийств относится и самоубийство Крафта
(роман
«Подросток»). Крафт, как и предыдущий герой, -
логический самоубийца. Его идея
заключается в том, что «русский народ есть народ второстепенный..., которому
предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не
иметь
своей самостоятельной роли в судьбах человечества. Ввиду этого... пришел к
заключению,
что всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой
идеей парализована, так сказать, у всех должны опуститься руки и...» [5, с. 44]. Крафт
видит распад, совершающийся в обществе: скрепляющая идея совсем пропала. Все
точно на постоялом
дворе и завтра собираются вон из России: все живут, только бы с них достало.
Таким
образом, Крафт застрелился из-за идеи, из-за
Гекубы, при этом сам Крафт изобразил смерть
свою в виде логического вывода: .., русские - порода
людей второстепенная, на основании френологии, краниологии и даже математики,
... стало быть, в качестве русского совсем не
стоит жить.
Неслучайно Достоевский всегда выступал против позитивистских принципов: Крафт
научно обосновал свою идею, а как следствие - свое самоубийство. Для Крафта жизнь
потеряла всякий смысл, а это, по Дюркгейму, один из самых важных моментов,
приводящих к трагедии. Крафт видит чрезвычайно
слабые общественные связи, в которых необходимым звеном выступает и он сам.
Дюркгейм одним из мотивов самоубийства
называет «своеобразное коллективное бесчувствие», о котором
свидетельствует сам Крафт: ... нынешнее время - это
время золотой средины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени,
неспособности к делу и потребности всего готового. Никто не задумывается об
этом.
Только в условиях социального распада и общественного разъединения могла
родиться крафтовская идея о второстепенности всего
русского народа: целое, частью которого Крафт
чувствует себя, болезненно, больно и ничтожно; автоматически все эти свойства
общества присущи и Крафту, при этом он не желает
быть материалом и «унавоживать почву» для
кого-то. Россия вследствие второсортности обречена, следовательно, и он,
чувствующий в
себе силу, энергию и рвущийся ум, способный послужить блату своего народа,
также
обречен. Россия скоро исчезнет, так не все ли равно, когда исчезнуть ему -
позже или
сейчас? В силу своего сознания Крафт решает сделать
это сейчас, не дожидаясь всеобщего
конца. Вокруг все равно пустота, такая же, а может быть, и хуже, чем там,
откуда никто не возвращался. Крафт даже не себя
чувствует ничтожеством в общей массе людей - с его
точки зрения ничтожна вся эта масса.
Для России нет, по Крафту, никакой достойной цели,
следовательно, и у него, как ее
частицы, нет цели, он, как и Россия, лишь средство, которым он быть не
желает. Все его
усилия ни к чему не приведут, потому что исправить исторический бег времени
нельзя.
Поэтому Крафт прекращает все разом.
К
первому же - эгоистическому - типу самоубийств, на первый взгляд, относится и
неудавшееся самоубийство еще одного логически мыслящего человека - Ипполита.
Обратим пристальное внимание на размышления героя. Часы болезни и бедствия
приводят его к пониманию ничтожности и бесполезности собственного
существования (к этому же выводу пришел и Крафт,
правда, исходя из несколько иной идеи). Ипполит путем логических размышлений
пришел к выводу, что жить две недели не стоит. Убеждение Ипполита, что
из-за двух недель не стоит сожалеть или предаваться каким-нибудь ощущениям,
одолело
[его] природой и может уже теперь приказывать всем [его] чувствам.
Крафту не было дела до общечеловеческого и всего мира,
его погубило «второстепенное» положение России, с Ипполитом еще хуже: весь
мир представляется ему то в виде
скорпиона, то в виде какого-то огромного и отвратительного тарантула. Картина, висящая
у Рогожина, вызывает в нем подобные ощущения: природа, констатирует Ипполит, представляется
при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и
немого зверя или в виде какой- нибудь громадной
машины новейшего устройства. Отсюда осознание Ипполитом того, что он -
игрушка, которой забавляется природа; малозначимая частица этого страшного
мира, который действует по собственным законам, не
подвластным пониманию этой частицы. Мир жесток, он не посчитался даже с
Христом, «перемолов» его в своей мясорубке. И нет сил и законов, позволяющих
противостоять ему. Причем этот мир живет своей жизнью, не обращая внимания на
человека и не интересуясь судьбой отдельной своей части. Мир,
люди, населяющие его, глухи к страданиям ближнего.
Во взаимоотношениях нет Любви и взаимопонимания. Ипполит мечтал, что все они
[люди]
вдруг «растопырят руки и примут меня в свои объятия, и попросят у меня в
чем-то
прощения, а я у них» [6, с. 318].
Этот мотив присущ всему творчеству Достоевского. И если благотворное
воздействие
этого мотива прослеживается в деятельности старца Зосимы, то этим Достоевский
показывает, что общество еще не готово принять данный мотив за основу жизни,
поэтому
и Ипполита постигает последнее разочарование.
Ипполит протестует не только против своей жизни, но и против неумения жить
других
людей, которые сами, по мнению героя, виноваты во всех своих бедах: «Я не мог
выносить
этого шныряющего, суетящегося, вечно озабоченного, угрюмого и встревоженного
народа, который сновал около меня по тротуарам. К чему их вечная
печаль, вечная их тревога и
суета; вечная угрюмая злость их (потому что они злы, злы, злы)? Кто виноват,
что они
несчастны и не умеют жить, имея впереди по шестидесяти лет жизни? Зачем Зарницын
допустил себя умереть с голоду, имея у себя шестьдесят лет впереди?» [6, с.326].
Как и Подпольный человек, и логический самоубийца, Ипполит не принимает
законов природы: по его мнению, не природа, не мир вообще, не другие люди
должны
распоряжаться жизнью и судьбой конкретного человека, а только он сам, потому
что если
человек живет, то, стало быть, все в его власти! Кто виноват, что он этого не
понимает?
(Здесь уже слышится штирнеровский мотив -Я власть себе даю.) Жизнь для Ипполита
много значит (или значила?). И так же, как Подпольный человек, герой приходит
к выводу о
значимости самого жизненного процесса. Так, сравним:
Подпольный человек пишет о том, что, может
быть, и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и
заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать -
в самой жизни, а не собственно в цели.
Ипполит пишет: «Дело в жизни, в одной жизни,
- в открывании ее [процессе],
беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии [цели]!» [6, с. 327].
Именно
эта точка зрения непосредственно отражает мнение самого Достоевского и
неоднократно проводится писателем. Так, Крафт,
говоря о второсортности России, не видел достойной цели стремления, только
второстепенные, следовательно, ему не к чему было приложить свои усилия и
свой ум. Поэтому можно сделать вывод о том, что видимое им отсутствие цели
детерминировало невозможность собственной реализации, то есть
отсутствие непосредственного жизненного процесса.
Ипполита к решению о самоубийстве также приводит сознание
невозможности
собственной реализации, потому что «пир» (самое жизнь), которому нет конца,
начал с того,
что «одного меня счел за лишнего». Ипполит задается
вопросом: «Что мне во всей этой
красоте, когда я каждую минуту, каждую секунду должен и принужден знать, что
вот даже
эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та
даже во
всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива, а я
один
выкидыш...» [6, с.343].
Таким образом, все и всё имеют право на жизнь, всем все дозволено, а Ипполит
ограничен, он - ничто, даже наряду с мушкой. Он не желает мириться с тем, что
природа
со своими законами в той своей части, что зовется Ипполитом, дала сбой, что,
как отмечает
сам герой, тут просто понадобилась его ничтожная жизнь, жизнь атома, для
пополнения какой-нибудь всеобщей гармонии в целом, для какого-нибудь плюса и
минуса, для
какого-нибудь контраста... Так же, как Иван Карамазов бунтует против
страданий детей, попавших в материал и унавозивших собою для кого-то будущую
гармонию, Ипполит
бунтует против того, что в материал для пополнения всеобщей гармонии попал он
сам.
И
дело не только в природе, но и в обществе, в котором ослаблены связи,
объединяющие людей, иными словами, в обществе, находящемся в состоянии аномии
(Гуннар Скирбекк и
Ниле Гилье отмечают, что слово аномия произошло от
греческого «a-nomi -
отсутствие
закона, нормы» [7, с. 660]).
И
действительно, «безнормие» лежит в основе поведения
Бурдовского и его «группы поддержки», для которых
честь женщины, более того, даже матери Бурдовского
- ничто по сравнению с достижением цели; вседозволенность выступает главным моментом
поведения практически для всех представителей окружающего Ипполита общества
(кроме
князя Мышкина). Не случайно Ипполит отмечает, что люди и созданы, чтобы друг
друга
мучить. «Я согласен, что иначе, то есть без беспрерывного поядения друг друга, устроить
мир было никак невозможно...»[6, с. 344]. При всем этом понимании Ипполит не желает,
как и Иван Карамазов, и логические самоубийцы, и
Подпольный человек, признавать, что
если уже раз мне дали сознать, что «я семь», то какое мне дело до того, что
мир устроен с ошибками и что иначе он не может стоять?
Физические страдания, душевные муки и эгоизм (в какой-то мере) при виде
общественного состояния (аномия, позволяющая Дюркгейму выделить анемическое
самоубийство) приводят Ипполита к бунту против общественного устройства и
собственной жизни. Примирение с открывшейся ему истиной мироздания
невозможно. И он принимает решение-протест: «Я умру, прямо смотря на источник
силы и жизни, и не захочу этой жизни! Если б я имел власть не родиться, то
наверно не принял бы существования на таких
насмешливых условиях. Но я еще имею власть умереть, хотя отдаю уже сочтенное. Не
великая власть, не великий и бунт» [6, с. 344].
Штирнер бы отметил, как нам кажется, что Ипполит вполне
сознал себя как Я,
следовательно, действительно имеет право на самоубийство, к которому
подвигло его,
вероятно, два фактора:
1) сознание собственной ничтожности перед лицом грозного мира;
2) сознание общественного состояния аномии. Не случайно Дюрктейм,
описывая
анемическое самоубийство, отмечал: «Чем меньше человек ограничен в своих
желаниях, тем тяжелее для него всякое ограничение» [1, с. 130]. Ипполит желал жить.
но время жизни его
было узко ограниченным. Видя вседозволенность других и свою ничтожность,
Ипполит
принял страшное решение. Самоубийства не состоялось. Правда, еще раз перед
нами
раскрылась сущность Фердыщенка, Рогожина и других.
В связи с такой развязкой образ
Ипполита несколько теряет в своей целостности, но уже одна эта идея возвышает
его над умеющими лишь смеяться, презирать и быть
равнодушными к страданию человеческой
души. Однако обоснованность им самим собственного решения позволяет определить
тип,
к которому можно отнести данное самоубийство.
Как мы уже отмечали, логические самоубийцы (эгоистический тип самоубийства)
приходят к трагической развязке путем логических умозаключений. В отличие от
них
Ипполит следующим образом обосновывает свое решение: «Окончательному решению
способствовала, стало быть, не логика, не логическое убеждение, а отвращение.. . Я не в
силах подчиняться темной силе, принимающей вид тарантула» [6, с.341].
Из
этого следует, что можно обозначить данный тип самоубийства как эгоистично-аномическое самоубийство.
Дюркгейм, объясняя это, отмечал: «Существует два фактора самоубийств,
обладающих по отношению друг к другу особым сходством, - это
эгоизм и аномия... Даже почти неизбежно бывает так, что у эгоиста
замечается наклонность
к беспорядочности; так как он оторван от общества, последнее уже не может
регулировать
его внутреннего мира...
Наоборот, дезорганизаторская тенденция не может не содержать в себе зачатка
эгоизма,
так как нельзя
восстать против всяких социальных уз, будучи в сильной степени
социализированным человеком» [1, с. 144-145].
Дюркгейм подчеркивает, что «самоубийцы и того, и другого типа страдают
тем, что
можно называть «болезнью бесконечности», но в обоих случаях эта болезнь
принимает неодинаковые формы. В первом случае мы имеем дело с рассудочным
умом. который
испытывает болезненное изменение и чрез мерно гипертрофируется, во втором
случае дело
идет о чрезмерной и нерегулируемой чувствительности. У одного [эгоиста] -
мысль,
возвращаясь все время к самой себе, теряет наконец
всякий объект, у другого - не знающая
границ страсть не видит впереди никакой цели; первый теряется в бесконечности
мечтаний, второй - в бездне желаний» [1, с. 143-144].
Как было рассмотрено выше, и эгоизм, и аномия присущи Ипполиту, в котором
совмещаются логические выводы и чувствительность, уход в себя,
сопровождающийся
глубокими рассуждениями, и заинтересованность внешним миром и окружающим его
обществом, в жизни которого Ипполит принимает активное участие; он мечтает о
всепрощении и желает просто жить полноценной жизнью. Однако желание Ипполита
жить полноценной жизнью не может быть реализовано вследствие: 1) внутреннего
(сознание кратковременности собственного существования в связи с тяжелым
физическим недугом) и 2) внешнего (сознание общественной дезорганизации)
факторов.
У Дюркгейма и Достоевского во взглядах на проблему самоубийства
чрезвычайно много общего, однако нам не хотелось бы, чтобы сложилось
впечатление, что мы пытаемся
подогнать факты, описанные Достоевским, под дюркгеймовскую
концепцию.
Классификация Дюркгейма мы используем только потому, что она наиболее полно и
точно очерчивает различные оттенки и типы самоубийств. Однако, как отмечает Бачинин,
несмотря на то, что оба (Дюркгейм и Достоевский) связывают периодические
возрастания
числа самоубийств с социально-историческим феноменом... ,
французский мыслитель
выступал против метафизических рассуждений о суициде... Его интересовали в
качестве
причин в первую очередь ясно очерченные группы фактов, поддающиеся
эмпирическим констатациям. Достоевский же уводил мысль за пределы социальной
среды в
метафизическую реальность, при этом признавая большое влияние социальной
среды.
Библиографические ссылки
1. Дюркгейм Э., Самоубийство// Суицид. Хрестоматия по суицидологии. М., 1988.
2. Достоевский Ф.М., Записки из
подполья // Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: 1973. Т. 5.
3. Достоевский Ф.М., Два
самоубийства // Там же. Т. 23.
4. Достоевский Ф.М., Приговор //
Там же. Т. 23.
5. Достоевский Ф.М., Подросток //
Там же. Т. 13.
6. Достоевский Ф.М., Идиот // Там же. Т.8.
7. Скирбекк
Г., Гилье Н., История философии. М., 2000.
______________
Журнальная публикация: Осетрова О. О., «Ф., М.
Достоевский и Э. Дюркгейм» // Філофсько-антрологічні
студії 2001: Спецвипуск.
- К.: Стилос; Д.: РВВ ДНУ, 2001. с-364.