.
ГЛАВА X I V.
Во 2-ой Государственной Думе.
Я не намерен здесь писать историю 2-ой
Государственной Думы я хочу только рассказать вкратце о некоторых своих
личных впечатлениях, наиболее характерных, о некоторых воспоминаниях, особенно
сильно врезавшихся в мою память; для подробного, более исторического описания
у меня здесь нет места, да это и не подходит под характер данной статьи.
Приехал я в Думу в начале Апреля, - Дума,
значит, существовала уже более месяца, и все имело вид, точно работа в
полном разгаре; почти все комиссии были уже сорганизованы и во всех их
работа кипела.
Но сразу же здесь, в Думе еще в боле резкой
форме нежели вне ее, я почувствовал, как все ее работы, всю ее жизнь давит,
гнетет тот самый кошмар грозящего ей разгона, который ощущался во всей
стран. Во всей стране разгона Думы ожидали. со дня на день и, помню, всю
дорогу из Иркутска в Петербург я не знал, удастся ли мни доехать, а в самой
Думе призрак грозящего разгона то резче, то слабее, но все время витал,
давил, и на все клал свою печать.
Неуверенность в своем существовании, а отсюда
и нерешительность, - вот главный лейтмотив ее поведения. Всякое более или
менее резкое движение, всякий боле энергичный порыв, - сейчас же вызывал
окрик регулирующего работы Думы кадетского большинства, - и боязливое оглядывание
на настроение, впечатление от сего в сферах. Точно постоянно стоял пред
ее глазами образ преждевременно загубленной 1-ой Думы и говорил: «Так и
с вами будет!»
И потому это не были смелые, дерзкие своей
наивностью депутаты 1-ой Думы, с юношеской самоуверенностью речами атакующие
произвол, с юношеской наивностью верящие в силу своих речей и свою неприкосновенность,
- нет, эти в большинстве преждевременно постарели от политической мудрости,
почерпнутой из переживаемого периода Столыпинского военно-полевого правления,
- и изверились они и в свою неприкосновенность, и в силу революции их родившей;
червоточиной ело их мужество сознание неизбежности того, что первым
депутатам казалось невозможным, - и не видели они кругом ничего,
что могло бы предупредить грядущую участь.
И действительно что видели они? в какой атмосфере
и из какой атмосферы пришли они в Думу.
Одиноким оазисом стояла Дума в царстве военно-полевого
режима; родившая ее, вынесшая ее на своем гребне волна народного движения
- давно опала, оставив ее одну, без опоры; и из всех щелей на нее двинулись
старые чудища, согнанные движением со своих веками насиженных мест, а теперь
стремящиеся опять их занять; и обламывали они, уродовали, теснили это столь
им чуждое, столь с ними не гармонирующее «законодательное учреждение».
Первые депутаты этого еще не замечали; но
судьба 1-ой Думы отрезвляюще подействовала на 2-ую, и последняя яснее,
без самообмана, без иллюзии смотрела и видела истинное положение дел. Она
видела; что ничем не ответила страна на разгон 1-ой Думы, ничем не ответила
на военно-полевой режим и знала она, что ничем не ответит страна и на разгон
2-ой Думы. А главное, всем было ясно, что эта истина, известная всем, известна
и П. А. Столыпину; он знает, что в любой момент может ее разогнать;
а раз он может, он это сделает; и раньше или позже, но несомненно
он удалить из государственного тела России эту, сидящую в нем занозой,
Думу с ее 200 депутатами-социалистами.
Мы существовали не волей народа, - мы существовали
только благодаря некоторой нерешительности Столыпина, выбирающего удобный,
подходящий момент.
И вот, в такой атмосфере надо было работать.
Разно реагировали на это разные партии.
Правые, желая ускорить развязку, главным образом
старались провоцировать Думу на какие-нибудь резкие движения, резкие выходки.
Очень ничтожные и в количественном и в качественном отношении, они не только
не годились для какой бы то ни было серьезной государственной работы, -
но и на провокацию их не хватало. Запевалой был у них Пуришкевич, а подголосками
Келеповский, Шульгин, гр. Вл. Бобринский: у нас из этого правого крыла
еще не дифференцировались умеренно-правые; октябристов тоже еще с трудом
можно было отличить от Пуришкевичей. В интересах этой именно провокации
они все время старались вызвать Думу т. е. кадетское большинство на разговоры
об отношении к террору.
Мы, социал-демократы, смотрели опасности прямо
в глаза; мы видели ее, знали ее неизбежность, и потому не устраивались
в Думе на долгие квартиры; но, не стремясь вызвать лишних столкновений,
мы старались использовать наиболее продуктивно занимаемую нами позицию.
Мы знали, что разгон Думы неминуем, но это обстоятельство мы не считали
возможным учитывать в смысле приспособления нашей тактики к желаниям правительства,
чтобы таким путем по возможности продлить дни жизни Думы; или же в понижении,
в сокращении для этого тех лозунгов революции, которые выдвинула демократия.
Нет, мы считали необходимым ставить эти лозунги во всем их объеме здесь,
пред Думой, правительством и народом и, несмотря на понижение революционного
тонуса в стране, - продолжать здесь в Думе непримиримую борьбу с этим безответственным
правительством.
Мы считали, что этой тактикой мы наилучшим
образом. служим цели: «беречь Думу!», так назойливо на всех перекрестках
провозглашаемой и пропагандируемой в то время кадетами; если эта Дума может
быть сбережена, то она лучше всего будет сбережена именно этой нашей тактикой,
при помощи которой мы конденсируем в Думе все народные чаяния, народные
желания; при помощи которой мы только и можем приблизить Думу к народу,
этому единственному источнику, откуда может прийти сила способная сберечь
Думу.
И, если эта тактика не сбережет эту
Думу, то она все же лучше всего способствует созданию условий, оберегающих.
в будущем вообще Думы; парламентаризм.
Самым гибельным образом этот, вечно висящий
над нами Дамоклов меч предстоящего разгона, повлиял на тактику самой сильной,
руководящей всей Думской деятельностью кадетской фракции.
Именно этот призрак грозящего разгона и постоянное
желание предупредить его, заставляли кадетов все больше принижать свои
требования, сокращать свои лозунги, все больше приспособлять свою тактику
к желаниям и настроению правительства и потому, лишая последнюю ясности
и определенности, лишало их, а следовательно и всю Думу in corpore, симпатии
и доверия демократии.
Доверия правительства они все же этим не покупали,
а следовательно только ускоряли катастрофу, поскольку отпугивали, отгоняли
от Думы народные чаяния и симпатии и делали ее еще боле одинокой; еще боле
беззащитной.
В этом хаосе рушащихся норм, каким характеризуется
период революции, кадеты убедили себя и старались убедить других, что нашли
обшит язык для Думы и правительства, - и что этот язык законность.
Строго следили они, чтобы Дума не сошла с
этого пути;
но чем дальше, тем больше эта строгость проявлялась только по отношению
к тактике левых; чем дальше, тем постепенно все больше сбивались они сами
с этого пути вправо.
Особенно резко и ярко обнаружилась эта губящая
их тенденция в знаменитом закрытом заседании о контингенте новобранцев,
когда они, терроризированные скандальничающими Пуришкевичами и министрами,
заставили своего председателя Головина в течение  часа изменить свое решение и увидеть в словах тов. Зурабова именно то,
что правые хотели в них видеть. Зурабов сказал, что русская армия терпела
и будет терпеть поражения, пока у нас будет самодержавие. Даже, сама по
себе взятая, эта фраза не только не заключает в себе ничего обидного для
армии, но наоборот - она резко подчеркивает, что причина поражения лежит
не во внутренних ее свойствах, - а исключительно во внешних условиях, в
той атмосфере, в которой заставляет ее жить и воевать самодержавие; и все
это Зурабов еще более ясно развивал в своей речи. Так посмотрел на эту
фразу и председатель Головин, да иначе и нельзя было на нее смотреть. Но
Пуришкевичи ухватились за нее; они начали кричать, голосить и, поддержанные
министрами, сорвали заседание. И кадеты позорно капитулировали перед скандальниками;
они головой выдали им своего председателя; заставили его признать ошибочным
свое первое толкование и правильным толкование Пуришкевичей; они заставили
его применить к тов. Зурабову дисциплинарную миру и даже извиняться пред
военным министром . . .
часа изменить свое решение и увидеть в словах тов. Зурабова именно то,
что правые хотели в них видеть. Зурабов сказал, что русская армия терпела
и будет терпеть поражения, пока у нас будет самодержавие. Даже, сама по
себе взятая, эта фраза не только не заключает в себе ничего обидного для
армии, но наоборот - она резко подчеркивает, что причина поражения лежит
не во внутренних ее свойствах, - а исключительно во внешних условиях, в
той атмосфере, в которой заставляет ее жить и воевать самодержавие; и все
это Зурабов еще более ясно развивал в своей речи. Так посмотрел на эту
фразу и председатель Головин, да иначе и нельзя было на нее смотреть. Но
Пуришкевичи ухватились за нее; они начали кричать, голосить и, поддержанные
министрами, сорвали заседание. И кадеты позорно капитулировали перед скандальниками;
они головой выдали им своего председателя; заставили его признать ошибочным
свое первое толкование и правильным толкование Пуришкевичей; они заставили
его применить к тов. Зурабову дисциплинарную миру и даже извиняться пред
военным министром . . .
Начиная с этого заседания, кадеты еще резче
и определеннее пошли по пути приспособления.
* *
*
Наша фракция была очень многочисленна; мы располагали
66 голосами (из них 11 были «примыкающие», - пользующиеся только совещательным
голосом на заседаниях фракции).
Благодаря уродству нашей избирательной системы,
предоставляющей пассивное избирательное право только избирателям в пределах
их участка и курии, и выделившей рабочих везде в отдельную курию, - а также
благодаря «разъясняющей» деятельности администрации, лишившей избирательного
права всех возможных кандидатов социал-демократии, - эти 66 депутатов не
были самые лучшие, самые опытные люди, какие имелись в нашей партии; это
не были лучине рабочие, лучшие интеллигенты, и очень большой процент депутатов
прошел просто в силу тех или других случайностей. Людей партийных и раньше
работавших в партии было только несколько человек; да и у этих, не говоря
уже о всей массе депутатов, не было почти никакого политического опыта.
И, уже очутившись на этом тяжелом и ответственном посту, мы только должны
были учиться, приобретать навык.
Понятно, с течением времени и из нашей среды
выработались бы дельные практики, хорошие ораторы, но пока что условия
борьбы были тяжелые.
С целью помочь фракции ориентироваться среди
очень сложных и серьезных вопросов Думской деятельности, при ней были образованы
комиссии, в которых Центральный Комитет Партии (тогда меньшевистский) пригласил
целый ряд сведущих лиц; вместе с этими сведущими лицами члены фракции изучали
вопросы, подлежащие обсуждению Думы, вырабатывали ту или другую программу
деятельности в думских заседаниях и комиссиях. Но организация этих комиссий
оставляла желать многого и по составу их, и по интенсивности работы, -
и объясняется это тем, что и выбирать «сведущих лиц», и работать приходилось
нелегально, под вечным страхом облавы, ареста, считаясь с условиями конспирации.
Но главное, что мешало работам, это распри
меж большевиками и меньшевиками. Большевиков у нас было очень мало, 13-14;
с ними, руководимыми тов. Алексинским, отношения установились возмутительные;
заседания нашей фракции мы сплошь и рядом убивали на самые мелочные, самые
бестолковые споры; например, спору о том, что меньшевики тратят неэкономно
деньги фракционной кассы, посвятили почти два заседания, - и это в то время,
когда мы, обстреливаемые со всех сторон, стояли в Думе, на которую правительство;
избрав мишенью именно нашу фракцию, готовилось сделать Последний натиск.
Очень вредно отразилось на деятельности нашей
фракции и то обстоятельство, что в конце Апреля, вскоре после моего приезда
уехало на Партийный Съезд несколько человек и в том числе тов. Джапаридзе
и Церетелли, самые выдающиеся у нас работники, на которых до сих пор главным
образом лежало руководство фракцией. С ними уехал и тов. Алексинский и
многие другие, и пробыли они почти вплоть до разгона Думы, а некоторые
таки не успели вернуться. Это было очень вредно не только в том отношении,
что лишило нас наших лучших ораторов; но еще и потому, что благодаря этому
мы оставшиеся были сильно стеснены в общей нашей политике; ожидая их со
дня на день, мы не считали себя вправе делать какие-нибудь серьезные изменения
в наших тактических приемах, хотя обстоятельства этого иногда и требовали.
* *
*
С рабочими Петербурга медленно, но связи налаживались.
Рабочие охотно приглашали на свои собрания депутатов; обыкновенно к воскресенью
у наших секретарей скоплялось много приглашений на заводы, в районы, и
больший ощущался недостаток в депутатах, желающих или имеющих возможность
ехать на собрания, нежели в собраниях, ожидающих приезда депутата.
Не раз такое посещение депутата кончалось
вмешательством полиции; прослышав об ожидаемом визите депутата, полиция
усиливала надзор за данным заводом или районом; если собрание предполагалось
в роще, поле, лесу, - то с раннего утра там рыскали патрули и, когда открывали
такое собрание с депутатом, - его немилосердно разгоняли, «зачинщиков»
арестовывали; депутата, положим, только до установления личности.
Разрешения на открытые, легальные собрания
нам, социал-демократам со времени моего приезда никак не удавалось получить;
я пробовал добиться разрешения на имя «примыкающего» - и тоже получился
отказ.
Связывали нас с рабочими запросы и добывание
материалов для обоснования этих запросов. По поводу запроса о притеснениях
профессиональных союзов мы вступили в сношения с многими столичными и провинциальными
профессиональными союзами: вопрос о безработных вызвал боле близкое знакомство
с организацией безработных. По поводу избиения рабочих на завод Чешера
(на Выборгской стороне) мне, помню, для ознакомления с обстоятельствами
этого дела пришлось раза 3 Съездить в Выборгский район, побывать на собрании
текстильного союза.
Таким образом в процесс самой работы, самой
защиты нами в Дум интересов рабочего класса вырабатывалась, крепла наша
непосредственная, живая связь с рабочими. Кроме полицейских условий, заставляющих
нас обставлять наши сношения с рабочими по возможности конспиративно, -
сильно мешали развитию этих связей опять таки наши дрязги меж большевиками
и меньшевиками; и мешали как тем, что часто на эти рабочие «собрания с
депутатами» они выносились во всем своем обличии мелких подсиживаний, мелочных
полемических выпадов, - так еще и тем, что большевистская пресса, довольно
сильная в Петербурге, упорно вела кампанию против нашей думской
фракции, проводившей в своей деятельности, понятно, тактические принципы
меньшевиков (как я уже сказал, громадное большинство нашей фракции
было меньшевистское).
* *
*
В населении представления об объеме и характере
наших депутатских полномочий и влиянии были очень не ясны. И о всяком своем
горе, всяком притеснении обыватели спешили известить Думу и здесь искали
защиты; а так как и в то уже время правительство полным ушатом проливало
на население всякого рода и вида насилия, то, ясно, как велика была наша
корреспонденция по этой части.
Особенно тяжелое впечатайте производили телеграммы,
с просьбой ходатайствовать об отмене смертных приговоров, все в таком же
обилии выносимых военными судами. И тяжело было главным образом в виду
полной нашей беспомощности в этом отношении. Что могли мы сделать? А каждый
час дорог, смерть нависла, грозит; родные, адвокаты просят спешить, пока
не поздно.
Вначале по поводу каждой такой телеграммы
у нас начиналось большое смятение; составлялся текст телеграммы к премьер-министру,
к военному министру; телеграмму подписывали человек 10 -15 депутатов, затем
2 - 3 отправлялись лично поддерживать ходатайство. Но после и к этому привыкли...
Мы все это проделывали, но как дело привычное, обыденное..
Много получал я просьб и личного характера,
не только от моих избирателей из Иркутска, но и из других мест России;
в большинстве это были просьбы, удовлетворение которых совершенно выходило
за пределы моей компетенции и по многим мне приходилось просто отказывать.
Но помню одну просьбу из Иркутска, по поводу
которой я счел своим долгом обратиться к Столыпину. В 1905 г. при «покорении»
Сибири, генерал Ренненкампф в Верхнеудинске казнил несколько человек, в
том числе инженера Медведникова, человека уже не молодого, скромного, тихого
и никакого отношения к революционным партиям не имевшего; я помнил, какое
тяжелое впечатление на всех нас произвела эта казнь, так как мы знали полную
непричастность Медведникова к революции; передавали, что он пал жертвой
личных счетов одного служащего, донесшего на него; рассказывали даже, что
сам Ренненкампф впоследствии жалел об этой казни, - но за достоверность
этого не ручаюсь. Прошло два года и вот, теперь отец казненного обращается
к Забайкальскому губернатору с просьбой разрешить ему огородить могилу
сына забором, так как за это время город разросся как раз по направленно
к тому месту, где похоронен его сын; по могиле ходит скот и оскверняет
ее. Губернатор ответил, что не видит основания для разрешения. Тогда отец
обратился ко мне. Я помнил этого М., старого с лицом ветхозаветного еврея;
помнил как вей мы с уважением пред его большим горем смотрели на него,
когда он медленно, молчаливо ходил по улицам нашего города и я понимал,
каким большим для него несчастьем должно быть осквернение могилы его сына.
Я послал. телеграмму Столыпину, изложил все дело, приложил копию ответа
губернатора. Ответа никакого я не получил. .Мне передавали; что могила
и доныне не огорожена, но отец уже просьбами никого не беспокоит - он умер.
И еще один раз обращался я к министру с ходатайством.
Я получил телеграмму от евреев Иркутска; извещающую меня, что генерал-губернатор
Селиванов энергично принялся за выселение их; выселяет старых, молодых,
только приехавших и давно живущих; а евреям, имеющим даже для него несомненные
права жительства в Иркутске, он не разрешает выезжать для лечения на курорт
Усолье, находящейся недалеко от Иркутска. Просили ходатайствовать о приостановке
выселения и разрешении больным лечиться в Усолье. Столыпин направил меня
к тов. министра Макарову. У Макарова в приемной я застал несколько человек
депутатов и все левой и крайне левой, и все они были с аналогичными ходатайствами:
о прекращении преследований профессиональных союзов, об освобождении арестованных,
прекращении выселения евреев и т. п. Товарищ министра нас всех любезно
принимал, кое-что кое-кому обещал, кое-что приостанавливал, облегчал, -
а в стране все шло по старому, и на смену этих единичных случаев бесконечным
потоком лились новые притеснения, новые насилия.
* *
*
Нас в Думе было только четыре депутата еврея:
я и 3 кадета. Это для 6-миллионного населения несколько мало. И потому
особенно много имел я корреспондентов среди евреев; но эти корреспонденты
никогда не писали мне о личных своих делах; никогда не обращались с просьбами
для себя лично, - они всегда в своих письмах обращали мое внимание на то
или другое притеснение, ту или другую несправедливость, насилие, из которых
соткано все правовое положение евреев в России. В самой Думе при мне еврейский
вопрос в полном объеме еще не обсуждался; нами, социал-демократами, и кадетами
были внесены два проекта основных положений для издания закона об отмене
всех ограничений, связанных с религией и национальностью; проекты без прений
были переданы в комиссию.
Но затронут еврейский вопрос при мне был два
раза. Раз, когда выступление министра народного просвещения послужило поводом
для оценки депутатами плодотворной деятельности этого министерства на почве
«просвещения» народа. Мы с кадетом-евреем решили сообща дать оценку «просвещения»
евреев; время ораторов было ограничено 10 минутами и в виду невозможности
в течений 10 минут привести хоть краткий мартиролог всех деяний правительства
в этой области, мы разбили задачу на два; я должен был говорить о деятельности
министерства в деле насаждения общего образования, кадет - национального.
Ему своей речи не удалось произнести - прения были прекращены.
Второй раз еврейский вопрос был поднят проф.
Рейном, одним
из немногих умеренных или октябристов (они тогда не дифференцировались
еще); поднять при обсуждении закона о контингенте новобранцев, в виде антисемитической
выходки; проф. Рейн повторил все недобросовестные сплетни, основанные на
статистических передержках, которыми он старался доказать особенно сильное
уклонение евреев от воинской повинности. Отвечал ему товарищ Кириенко.
Тут же в этом заседании произошел любопытный
инцидент, заслуживающий упоминания.
Кадеты, как известно, из соображений глубоко
политических, решили голосовать за закон, т. е. дать правительству солдат.
Мусульмане от имени мусульманского населения, польское коло от имени польского
народа тоже кладут к подножию столыпинского престола свою дань патриотизма,
заявляя, что и они голосуют за закон. Очередь, как будто, за евреями. Очевидно,
желая позондировать меня, один из евреев-кадетов подходить ко мне и полушутя,
полусерьезно говорит: «Если бы вас здесь не было, мы бы сделали такое же
заявление от имени евреев». И я поспешил его заверить, что сейчас же после
такого заявления - я заявил бы протест от имени еврейских рабочих и еврейской
демократии. И, не желая создавать скандала, евреи-кадеты воздержались от
«патриотического» заявления.
Против заявления польского коло - от имени
польских рабочих, как входящих в составь нашей партии, протестовал один
из членов нашей фракции.
Кроме писем с просьбами, советами, получал
я в достаточном количестве и письма другого рода: анонимную корреспонденцию,
полуграмотную с ругательствами и угрозами, напоминанием о судьбе Герценштейна
и Иоллоса. Но эти анонимные плевки из-за угла были не только моим уделом;
особенно много получал их в нашей фракции Зурабов после инцидента с «оскорблением»
армии в закрытом заседании. Помню, когда я ему раз показал одно особенно
грубое анонимное письмо, - он вынул из кармана целый пакет писем, записок,
- и я был поражен той изобретательностью, виртуозностью ругательств, которые
грязным потоком лились из этой корреспонденции.
* *
*
Уже боле двух месяцев Дума существует; правительство
не разгоняет, «милует», - и кадеты, и иже с ними, понемногу духом воспряли.
Головин ездит в Царское Село, принимают его
милостиво, - и еще более горды кадеты; это «долговечие» Думы приписывают
они себе, своей тактике; вот так, незаметно, тихонько Дума и врастет в
тело России, станет в нем сначала привычной, а затем и необходимой частью;
правительство так, незаметно для него будет обойдено; а когда уже Дума
так врастет, что станет крепко на ноги, тогда и за реформы, и за проведение
в жизнь своей программы примутся кадеты.
И еще крепче держатся они своей тактики; они
и солдат дали правительству, а теперь и еще один подарок ему сулят: бюджет
утвердят, деньги дадут!
И так, солдаты и деньги есть, что еще нужно
правительству?!
Но кадеты очень наивно судили. Столыпину этого
уже мало было.
И, когда Дума вплотную подошла к работе, когда
при обсуждении бюджета она слишком начала интересоваться деталями государственного
хозяйства, когда она его начала уже слишком тревожить запросами, - ему
это надоело и он решил, что довольно терпеть, нужно положить конец.
Но только разогнать Думу - этого ему
уже тоже мало. Нужно так устроить, чтобы вообще обезопасить себя от повторения
такого скандала, как Дума с 200 депутатами-социалистами. Сенатские, губернаторские,
полицейские и прочие д «разъяснения» - очевидно, недостаточны, не помогают;
нужно средство порадикальнее.
И средство найдено! Мастер по части выборов,
товарищ министра Крыжановский средство нашел; недаром он натаскан на выборах!
Средство верное, радикальное: нужно только несколько изменить избирательный
закон. Почему этого не сделать? Народ безмолвствует и несомненно будет
безмолвствовать. Что же мешает? Неужели то обстоятельство, что только недавно
Столыпин настойчиво и громко провозгласил: закон это все, закону
он будет всегда и все подчинять в стране, право выше силы и т. п. хорошие
вещи, а такое изменение как будто противоречить закону, ясно говорящему,
что изменить избирательный закон можно только с согласия законодательных
учреждений?! Но ведь эти хорошие вещи только принципы, которые можно
провозглашать, но к руководству они отнюдь не годны.
И так, новый избирательный закон выработан,
заготовлен; теперь нужно только разогнать Думу. Без повода не удобно, много
удобнее создать благоприятный инцидент, - и инцидент создается, объектом
избирается наша фракция.
В военную организацию при Петербургском комитете,
нашей партии проникает провокатор; он подговаривает организацию послать
к нам, на квартиру нашей фракции депутацию из представителей от солдат
всего Петербургского гарнизона для вручения нам наказа. Час, когда эта
депутация должна к нам явиться известен полиции и выбран именно такой,
когда у нас происходят заседания фракции и, следовательно, во фракции много
депутатов. И обо всем этом мы депутаты не. оповещаемся.
Задача состоит в том, чтобы полиция застала
вместе, в одном помещении депутатов и солдат из различных воинских частей
Петербурга; а из этого мастера уже состряпают именно то, что нужно: совместное
заседание нашей фракции с представителями солдат для военного заговора.
И интереснее всего здесь отметить, что через
своего провокатора правительство отлично знало, зачем солдаты должны были
прийти в квартиру фракции; оно даже имело копию наказа, который должен
был быть нам вручен, - и все же оно решило притворяться, что верит смешной,
детски наивной сказке о том, что мы, социал-демократы, составили военный
заговор и что для обсуждения этого заговора устраиваем совместно с солдатами
заседание. И где устраиваем это конспиративное заседание? На Невском проспекте,
в квартире фракции, в день заседания фракции, когда бесконечной волной
приходят туда и уходят товарищи, корреспонденты; просители и в числе их
подозрительные лица охранного происхождения! Как бы то ни было; план этот
был составлен, роли распределены.
Днем нападения назначен вечер 5 мая.
Было уже 8 часов вечера. Помещение фракции
имело свой обыкновенный вид настоящей людской толчеи, какой оно приобретало
в дни, назначенные для заседаний фракции. В эти дни депутаты, живущие на
окраинах города или за городом, назначали здесь свидания; сюда приходили
корреспонденты газет за получением сведений, ходоки из провинции отыскивали
здесь своих депутатов или же старались раздобыть билеты на заседания Думы;
товарищи из районов приходили в эти дни сюда просто узнать, что слышно?
По всем комнатам толпился народ.
Солдата ни одного не было. (Почему?
Это когда-нибудь будет известно. Министр юстиции утверждал, что полиция
опоздала на 5 минуть. Во всяком случай факт тот, что солдат не было,
- значит, весь план не удался).
В это время ворвалась полиция, заняв предварительно
все выходы.
Они ворвались сразу, с револьверами в руках,
быстро рассеялись по всем комнатам, заняли все двери и, объявив всех арестованными,
приступили к обыску задержанных. Первые депутаты, ошеломленные всей этой
историей, пробовали было протестовать, но городовые, приставив револьверы
к их груди, заставляли их поднимать руки вверх и опорожняли карманы. Так
им удалось обыскать только четырех депутатов, задержанных в передних комнатах;
когда же подошли мы все из задних комнат, человек 35, - мы заявили приставу,
что обыскивать себя не позволим; при попытках полиции - окажем самое серьезное
сопротивление, так как мы, как депутаты, неприкосновенны. Кроме того мы
потребовали, чтобы немедленно явился представитель судебного ведомства,
а до тех пор мы и в квартире, не позволим производить обыск.
Не желая доводить дело до скандала, пристав
нас оставил в покое, а занялся обыском и установлением личности всех посторонних,
задержанных в нашей квартире; нас же распорядился не выпускать из квартиры,
пока мы не разрешим обыскать себя. А так как мы обыскивать себя не позволяли,
то фактически мы оказались арестованными.
Мы начали звонить по телефону к министрам,
прокурору, сообщая об учиняемом над нами насилии и требуя немедленного
прибытия судебного чина, так как полиция самоуправствует.
Но министры сказались отсутствующими и только
в 12 часов ночи явился прокурор судебной палаты Камышанский (Нынешний Вятский
губернатор), несомненно бывший душой всего этого предприятия.
Камышанский прежде всего объявил нам, что,
так как все это дело обыска ведется в порядке охраны, то он, прокурор,
тут ни при чем. На наше заявление, что наше задержание и обыск незаконны,
как нарушающие нашу «неприкосновенность», - он ответил, что неприкосновенны
мы лично, но не наши карманы, и что поэтому полиция имеет право обыскать
нас, - а мы лично не задержаны, и как только позволим себя обыскать, немедленно
будем освобождены.
Но мы заявили, что остаемся при своем понимании
того, что означает наша «неприкосновенность» и будем защищать ее до последних
сил, считая это своим долгом по отношению к избирателям и Думе.
Тогда он сказал, что идет совещаться с министром
юстиции..
Опять мы остались одни с полицией.
Полиция попробовала приступить к обыску квартиры
и выемкам; собрав в нашей канцелярии бумаги со стола, пристав их опечатал,
но, когда городовой хотел унести их, один из депутатов, вошедший в это
время в канцелярию, вырвал пакет у городового, унес его в комнату, где.
Мы все собрались, положил на стул, сам сел сверху и говорить: «это моя
личная собственность, без судебного чина вам добровольно не отдам, берите
силой!» А другой депутат, когда городовые хотели осматривать ящики стола,
сел на стол и тоже заявил, что без судебного чина не позволит обыскивать
ящиков.
Приставь, увидав, что дело принимает серьезный
оборот, уступил, велев только городовым следить, чтобы ничего не уносили
из комнат.
Становилось все позже. Два, три часа ночи
- никого нет, ни откуда никакого ответа!
С посторонними давно покончили; всех обыскали
и разослали по тюрьмам и участкам.
Мы, депутаты, собрались все в одну комнату.
Сюда же начали собираться городовые, выстраиваясь вдоль стен; у дверей
столпилось несколько подозрительных лиц в штатском и, несмотря на наши
протесты, преспокойно рассматривали нас.
Попробовали мы было устроить заседание, -
но оно не клеилось при таких свидетелях, да к тому же мы все страшно устали.
Более уставшие постепенно кое как примостившись, кто на стульях, кто на
столе, кто просто сидя, засыпали.
Только к 4 часам ночи вернулся Камышанский.
Министр, говорить он, одобрил действия полиции. Но и мы по прежнему твердо
стояли на принятом нами решении.
Тогда он вдруг меняет тактику; требует у пристава
ордер, по которому тот явился к нам с обыском, рассматривает его и заявляет,
что он ошибся; что, судя по ордеру, полиция явилась не в порядке охраны,
а потому дело подчинено ему и он немедленно берет его в свои руки;
сейчас же он рассмотрит все относящиеся сюда документы и решит, насколько
основательны требования полиции о нашем личном обыске.
Он удаляется с приставом в соседнюю комнату
и через  часа выходить
и объявляет нам, что не видит оснований для нашего обыска и мы можем потому
беспрепятственно расходиться по домам. Так нам удалось на этот раз отбиться.
часа выходить
и объявляет нам, что не видит оснований для нашего обыска и мы можем потому
беспрепятственно расходиться по домам. Так нам удалось на этот раз отбиться.
На следующий день мы внесли срочный запрос
правительству по поводу этого ночного нашествия полиции.
Это было как раз то заседание, которое правые
избрали для своего провокационного вопроса правительству по поводу провокационного
же террористического заговора на жизнь Николая II.
Вся левая, предупрежденная об имеющей состояться
патриотической манифестации, демонстративно отсутствовала.
Вернувшись в зал, мы поставили наш запрос.
Присутствовавшие в Думе Столыпин и Щегловитов согласились сейчас же дать
разъяснения и заявили, что по имевшимся у них агентурным сведениям у нас
должно было состояться совместное заседание фракции с солдатами для организации
военного заговора; а солдат не застали, так как полиция, мол, опоздала
на 5 минут... Поддержанный кадетами, запрос наш все же был принят Думой.
* *
*
Прошло 4-5 недель. Мы уже предполагали,
что сконфуженное неудачей правительство постарается, чтобы все забыли об
этом скандальном предприятии.
Но правительство не сконфузилось. Не 6еда,
что единственное обстоятельство, которое нужно было инсценировать,
чтобы создать основание для обвинения в организации военного заговора,
не удалось, - но оно могло быть; не опоздай полиция на пять минут
и оно было бы, в этом правительство было убеждено.
И потому делу был дан ход. Но все делалось
в глубокой тайне, обставлялось глубокой конспирацией.
И, когда все было готово, новый избирательный
закон выработан - приступили к последнему акту. Думе внезапно было поставлено
категорическое требование выдать всю нашу фракцию из 55 человек.
И в то время, как Столыпин ставил это требование
Думе, - полицейские отряды, не дожидаясь думского разрешения, производили
обыски у всех нас на квартирах, не стесняясь нашим отсутствием.
Расчет у Столыпина был правильный: если
Дума уступит и выдаст всех социал-демократов, то левая вся сразу ослабеет,
а главное, Дума благодаря такому решению настолько потеряет в мнении и
уважении народа, что станет послушной игрушкой в руках правительства.
Но на это Столыпин мало рассчитывал; он хорошо
понимал, что кадеты слишком благоразумны, чтобы решиться на такое политическое
самоубийство. А .при отказе - есть предлог для разгона и уже заготовлен
новый избирательный закон, совершенно обеспечивающий от крайней Думы.
И действительно, кадеты отказали правительству
в немедленной выдаче. Назначается комиссия для рассмотрения правильности
обвинений, взводимых правительством на нашу фракцию. (1)
Столыпин ждет; ему так было бы выгодно, если
бы думская комиссия признала эти обвинения правильными, что для этого стоит
обождать день, другой. Но через день выясняется, что ответ комиссии будет
неблагоприятен для правительства, - и ждать уже нет смысла.
В ночь на 3 июня распубликовывается указ о
роспуске 2-ой Думы.
Все депутаты социал-демократы, ночевавшие
дома, - арестованы.
Издан новый избирательный закон.
Петербург молчит. Россия молчит.
Я ночевал у знакомых и потому избег ареста.
Еще несколько дней прожил я в Петербурге, ожидая событий.
Ничего. Все течет своим чередом, все тихо,
спокойно.
Страница истории России перевернулась.
И я уехал заграницу.
Виктор Мандельберг.
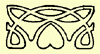
1. Подробно эти последние дни 2-ой Думы описаны мной
в сборнике
«Тернии без роз».