Представление о поэте, одухотворенном божественной силой,
не было привилегией только Сократа, отводящего, как мы в этом убедились,
такую огромную роль бессознательному. Оно было присуще мыслителям древности
всех направлений. Демокрит (460–370 г. до н. э.), например, яростный материалист,
современник Платона, оставил нам следующее высказывание: «Без безумия не
может быть ни один великий поэт» (68 B 17 Dies). И даже Аристотель признает,
хотя и в косвенном виде, наличие экстатического в поэзии (а значит и в
поэтическом мышлении) – в «Политике» (IV, 1343 b, 0–10) находим
такое высказывание,: «Сократ в «Государстве» не прав, когда утверждает,
что наряду с дорийским ладом можно оставить еще только фригийский, тем
более что он из музыкальных инструментов исключает флейту. Ведь фригийский
лад в ряду других занимает такое же место, какое флейта среди музыкальных
инструментов: тот и другой имеют оргиастический, страстный характер. Доказательством
этого служит поэзия: для выражения вакхического экстаза и тому подобных
состояний возбуждения из всех инструментов преимущественно нужна
флейта, а среди ладов такая поэзия для соответствующего выражения прибегает
к фригийскому ладу».
И хотя Аристотель имел понятие о вакхическом (бессознательном)
экстазе, присущем поэтическому искусству, он явно исключил вакхическое
из человеческого мышления, что хорошо видно в его «Поэтике», где происхождение
поэзии он рассматривает только и только в плоскостном плане, ибо, дабы
не противоречить самому себе, ничего кроме прагматических рассуждений,
вытекающих из пресловутого третьего постулата, предложить не может: «Сочинение
эпоса, трагедий, а также комедий и дифирамбов, ...– все это в целом не
что иное, как подражание (mimeseis)» (IV, 1447 a 13).
И, конечно же, очевиднее очевидного, что именно Аристотель
здесь исключает. Но мы вслед за Сократом, утверждаем, что задачей всякого
творчества (в том числе и философского) является не внешнее, а внутреннее
– самопознание, цель которого до скончания веков пребудет неизменной. Еще
со времен Аратты творчество это взяло на вооружение естественную тенденцию
быть не плоскостным, а объемным – учитывать не только сознательное и реальность,
но и бессознательное (и в Греции, и в Сирии, и в Израиле, и в Ираке, и
в Индии.и в Японии, и в Китае) и никакой Аристотель и никакая прагматика
этого древнего устремления не истощит. И здесь мы позволим себе повторить
рассуждение, взятое из известного произведения древнего даосского мудреца
Чжуан-цзы (IV–III в. до н. э.), жившего во времена Платона – повторить
с таким чувственным проникновением, будто оно наше собственное [2,
с.117]:
« – Незнание глубоко, знание поверхностно, – ответило Безначальное.
– Не знать – это внутреннее, а знать – это внешнее.
Тут Великая Чистота вздохнула и сказала: «Значит, мы
знаем благодаря незнанию! А не знаем из-за знания!
Кто же знает знание, которое не знает?»
– Путь неслышим, а если мы что-то слышим, значит, это
не Путь, – ответило Безначальное. – Путь незрим, а если мы что-то видим,
значит, это не Путь. О Пути нельзя ничего сказать, а если о нем что-то
говорят, – значит это не Путь. Кто постиг Бесформенное, которое дает формы
формам, тот знает, что Пути нельзя дать имя».
И теперь, разве не совпадает с отмеченным высказыванием
Чжуан-цзы мнение Сократа («Федон», II, 83 ab), что «...стремящимся к познанию
известно... до какой степени обманчиво зрение», что душе во избежание ошибок
необходимо «...насколько это возможно... сосредоточиваться и собираться
в себе самой, верить только себе», мыслить только «...о том, что существует
само по себе, и не считать истинным ничего из того, что она с помощью другого
исследует из других вещей, иначе говоря из ощутимых и видимых, ибо то,
что видит душа, умопостигаемо и безвидно»? Чтобы быть более конкретными,
обращаем внимание читателя на тождество постигаемого Бесформенного у Чжуан-цзы
и умопостигаемого безвидного у Сократа. И, кстати, исходя из платоновского
понятия идей, умопостигаемое безвидное и есть как раз то, что дает форму
формам, в виде земного (иллюзорного) существования вещей. Тождественным
является и это: у Сократа – зрение обманчиво, у Чжуан-цзы – не только слышимое
и видимое говорит о ложности Пути, но и говорящее что-либо о нем... И это:
у Сократа – требование, предъявляемое душе, во избежание ошибок «...собираться
и сосредотачиваться в себе самой», у Чжуан-цзы – положительное отношение
ко внутреннему (к бессознательному), к глубине незнания, благодаря которому
мы знаем все то, что знаем. Заметим также и тот любопытнейший момент,
что главенствующее положение в символической притче Чжуан-цзы занимает
Безначальное и все действующие элементы диалога (Великая Чистота,
Путь, Бесформенное, знание и незнание) подчиняются ему. Следует отметить
явную перекличку этого чжуанцзынского символического Безначального с размышлением
Сократа в «Федре» (II, 245 dе): «Если бы начало возникло из чего-либо,
оно уже не было бы началом. Так как оно не имеет возникновения, то, конечно,
оно и неуничтожимо. Если бы погибло начало, оно никогда не могло бы возникнуть
из чего-либо, да и другое из него, так как все должно возникать из начала.
Значит начало движения – это то, что движет само себя. Оно не может ни
погибнуть, ни возникнуть, иначе бы все небо и вся Земля, обрушившись, остановились
и уже неоткуда было бы взяться тому, что, придав им движение, привело бы
к их новому возникновению».
Несомненный интерес представляет также и тот факт, что
в «Меноне» Сократ пытается убедить своего собеседника, что нового познания,
как такового, нет и то, что мы называем познанием, является припоминанием.
Делает это Сократ с помощью вопросов, задаваемых мальчику – рабу Менона.
Сократ выясняет у раба, которого не обучали никаким математическим наукам,
наличие геометрических знаний. Дальше в этом диалоге проявляются
следующие важные для нашей темы моменты – Сократ говорит Менону:
а) «...оно (знание – прим. наше) всегда у него (у мальчика
– прим. наше) было, значит он всегда был знающим, а если он его когда-то
приобрел, то уж никак не в нынешней жизни» (I, 85 e).
б) «...если он (мальчик – прим. наше) приобрел их (знания
– прим. наше) не в нынешней жизни, то разве не ясно, что они появились
у него в какие-то иные времена, когда
он и выучился?» (I, 86 а).
Опять же – совпадение с тем, как понимал этот вопрос даос
Чжуан-цзы. И здесь, наконец, пришла пора сказать, что причина этой тождественности
может иметь несколько объяснений. Мы не отрицаем ни одного из них, но главным
объяснением является, исходя из отмеченной нами некоторой одинаковости
учений Будды, Лао-цзы и Пифагора, то, что все трое были современниками.
Прикоснемся к этому вопросу, насколько это возможно, более конкретно. Мы
уже говорили о вероятии посещения Индии Пифагором с целью ознакомления
с учением Будды. Но, поскольку Китай граничит с Индией, что может быть
странного в том, что подвиг великого грека повторил великий китаец? Или
реальнее того – постижение основных положений индийского мудреца
в результате встреч и бесед с его странствующими учениками. Следует иметь
ввиду и ту очевидность, что в даосизме и буддизме большинство положений
склонны к ритуально-смысловой близости по той общей для них причине, что
объединяющим началом здесь являются Упанишады, известные и в Индии и в
Китае задолго до возникновения этих двух неортодоксальных направлений.
Этим самым мы желаем сказать о возможности изолированного бесконтактного
их самозарождения на общем фундаменте Упанишад. И, действительно, и буддизм
и даосизм в своем чистом виде полностью совпадают с основополагающими принципами
Упанишад. Этот вариант их параллельного на этой базе самозарождения и можно
было бы принять за основу, если бы зачинатели этих двух направлений жили
в разное время, но плюс к тому, что они были современниками, они еще и
жили неподалеку друг от друга – в соседних государствах. Итак, все данные
склоняют нас к гипотезе, что Лао-цзы, встречался если не с Буддой, то с
его последователями.
В табл.1 представлены учения Востока и Запада.
.
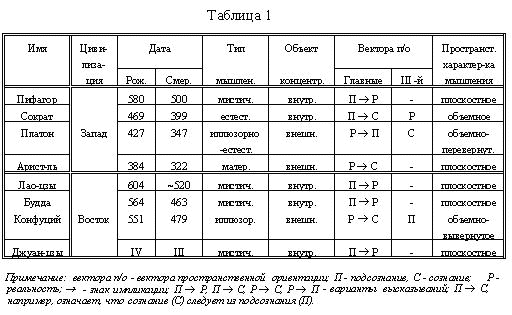
.
Наша интерпретация, исходящая из типа мышления и его пространственной
ориентации, находит, что все эти учения ( и Будды, и Пифагора, и Лао-цзы,
и Конфуция, и Платона) родственны. И только Сократ! – эта,
даже Платоном необтесанная глыба, имеет, несмотря на свое пифагорейство,
особую группу крови: собачью! – как мы это выяснили в первой главе. Что
касается Аристотеля, то признаемся, что будь на то наша воля, в этот патриарший
ряд он не попал бы, но мы включили его: во-первых, из сострадания к человечеству,
умудрившемуся раболепно распластать свое мышление на плоскости третьего
аристотелевского постулата, и, во-вторых, мы нашли своевременной и полезной
попытку этот постулат опровергнуть.
Но не будем торопиться. Примем к сведению, что родственность
Будды, Пифагора и Лао-цзы берет свое начало не только из того определяющего
принципа, что они были современниками, но также из того положения, что
этой тройке была дарована от рождения способность в одинаковом направлении
мыслить, а именно – в мистическом: вектор реальности (Р) следует не из
самой реальности , а из подсознания (П Р). Р).
В учениях Платона и Конфуция также имеются совпадающие
моменты, требующие особого рассмотрения. Пространственная характеристика
мышления двух этих основоположников определена нами соответственно, как
объемно-перевернутая и объемно-вывернутая. Предлагаемая нами терминология,
может у снобистски настроенного читателя вызывать ироническую
улыбку, но тем не менее она имеет глубокий смысл – философский и исторический.
Попробуем в этом убедиться.
Начнем с того, что пространственная характеристика мышления
у Сократа определена нами, как объемная. Почему так? На основе изучения
наследия, оставленного Платоном, мы пришли к выводу, что вопросы, которые
Сократ исследует с помощью сознания, извлечены им из подсознания в результате
самоуглубления (неустанных попыток познать самого себя) – т. е. сознание
(С) у него следует из подсознания (П). При этом необходимо учесть, что
он, анализируя П с помощью С, не только не забывает о существовании Р (реальности),
но каждый раз косвенно намекает, что без этой материи вся его диалектика
была бы беспочвенной: «...кровати, – говорит он, – бывают троякими: одна
существует в природе, и ее мы признали бы, думаю я, произведением бога...
Другая – это произведение плотника. Третья – произведение живописца...
Живописец, плотник, бог – вот три создателя этих трех видов кроватей» («Государство»,
III, 597 b). И неважно то, что кровать здесь (трояко сотворенная
– богом, живописцем и плотником) является, при такой троице, воспроизведением
идеи идеальной кровати, исходящей от бога, божественное существование которого
Платон в утопическом произведении своем из глубин сократовского
сердца перенес в недосягаемые занебесные сферы, в некую воображаемую физическую
реальность; важнее всего то, что у того Сократа, которого Платон изображал
в первом периоде своей жизни, бог был познаваем, ибо находился, исходя
из диалогов этого периода, не в немыслимых далях, а внутри самого Сократа.
И, надо сказать, что этот сократовский бог творил ту же самую кровать,
практически, по той же схеме, которой руководствовался Платон, но творил
он ее не из занебесья, а изнутри самого человека.
Исходя из этого ни бог, ни содержащаяся в нем идея идеальной
кровати (кровати самой по себе) и плюс к этому, одновременно, ни живописец
(Сократ по профессии был скульптором), ни плотник, воспоминающие в момент
творческой самоотдачи божественную идею кровати (архетип) и, благодаря
этому, созидающие конкретную (несовершенную кровать) – никто не выпадал
и ничто не выпадало из процесса мышления за пределы самого человека. Человек
в этом процессе не отбрасывал ни один из трех векторов – ни вектор подсознания
(П), ни сознания (С), ни реальности (Р). Вот почему пространственная характеристика
мышления у Сократа осмысливается нами, как объемная. Заметим также, что
в табл.1 тип мышления у Сократа определен, как естественный. И потому
так, что подсознание у человека первично (оно существовало в нем
до появления сознания), а у Сократа, как мы выяснили, С следует из П –
т. е. вторичное следует из первичного; и вдобавок к этому реальность (физическая)
не исключается – она есть, несмотря на то, что не служит для Сократа предметом
диалектического анализа; она есть, потому что философ дает нам возможность
ощутить ее, как среду своего реагирующего на нее присутствия.
Теперь, уважаемый читатель, вернемся к рис.1. Для определения
основополагающих вариантов логических высказываний, нами были использованы
три вектора. Один вектор и его исходная точка находится в реальности, другие
два вектора и их исходная точка – в самом человеке. По нашему мнению, у
человека, ощущающего такую трехвекторность, тип мышления определяется,
как естественный. И, действительно, человек с таким типом мышления, как
мы это выяснили на примере с Сократом, является исходной точкой одновременного
отсчета – подсознания (П), сознания (С), и возвратной реакции на реальность
(Р).
Возвратимся к Платону: мы уже говорили, что пространственная
характеристика его мышления была названа нами, объемно-перевернутой.
Тип же его мышления ( табл. 1) мы установили как иллюзорно-естественный.
И здесь мы допустили в отношении Платона нечто несовпадающее
с Сократом, несмотря на благоговейное отношение ученика к своему
учителю. Определим это несовпадение. Если тип мышления Сократа мы определили,
как естественный, а пространственную характеристику, как объемную (на рис.1
это изображено векториально), то мышление Платона, с нашей точки зрения,
выглядит абсолютно иначе (рис.2). Попробуем дать этому объяснение.
.
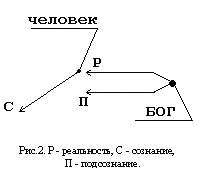
.
Как мы уже выяснили, основное требование Сократа по отношению
к себе и к тем, кто приходил к нему научиться мудрости – изучать самих
себя, сосредотачиваться на самих себе – добывать знание из незнания – т.
е. из подсознания (П).
Но ведь существенностью подсознания является коллективное
бессознательное (архетипы). Опять же, не терминируя понятие
архетипа, не обозначивая его никаким отличительным словом, Сократ прекрасно
и вполне современно проник в феноменологическую суть этого явления. В «Теэтете»
(II, 191 cde) Сократ говорит собеседнику: «Так вот, чтобы понять меня,
вообрази, что в наших душах есть восковая дощечка; у кого-то она побольше,
у кого-то поменьше, у одного из более чистого воска, у другого – из более
грязного или у некоторых он более жесткий, а у других помягче, но есть
у кого в меру... Скажем теперь, что это дар матери Муз, Мнемосины, и, подкладывая
его под наши ощущения и мысли, мы делаем в нем оттиск того, что хотим запомнить
из виденного, слышанного или самими нами придуманного, как бы оставляя
в нем отпечатки перстней. И то, что застывает в этом воске, мы помним и
знаем, пока сохраняется изображение этого, когда же оно стирается или нет
уже места для новых отпечатков, тогда мы забываем и больше уже не знаем».
Уважаемый, читатель, не рукой ли подать от подобного понимания
Сократом нашего подсознательного до идентичных размышлений над этой проблемой
Карла Гюстава Юнга и далее – до БПМ (базовых перинатальных матриц) Станислава
Грофа?
Вопросом воспоминаний такого забытого знания и занимался,
собственно говоря, Сократ. Но при этом забытое у Сократа не выходило за
пределы самого вспоминающего – оно находилось внутри него. Одним из способов
вспомнить забытое философ, как истинный пифагореец, считал, посвящение
в таинство – в «Федре» (II, 249 c) он говорит: «Только человек, правильно
пользующийся такими воспоминаниями, всегда посвящаемый в совершенные таинства,
становится подлинно совершенным». Что именно воспоминается в процессе посвящения
было раскрыто нами в главе «Тайна таинств» – в число посмертных феноменов,
как мы выяснили, входит и отделение души от тела, и видение сияния. Такое
видение, очевидно, воспринималось Сократом не только, как божественное
явление, но, как олицетворение самого бога внутри познающего. Вместилищем
сократовского бога была не реальность (Р), а подсознание (П) – т. е. сам
человек. Мы утверждаем это еще и потому, что Сократ был поклонником той
мудрости, которая была начертана на Дельфийском храме. В «Алкавиаде» (I,
132 cde) Сократ спрашивает у своего ученика – «...постигли ли мы значение
прекрасной дельфийской надписи...?» И далее: «Я скажу тебе, о чем, как
я подозреваю, говорит нам и советует эта надпись». Продолжая цепь рассуждений,
Сократ приходит к выводу, что «...душа, если она хочет познать самое себя,
должна заглянуть в душу, особенно в ту ее часть, в которой
заключено достоинство души – мудрость...». Затем Сократ вопрошает:
«Можем ли мы назвать более божественную часть души, чем ту, к которой относится
познание и разумение?» После чего он делает потрясающий вывод (подтверждающий
не только далеко нетрадиционную его религиозность, но скорее еретическое
понимание божественного начала по отношению к общепринятому в его времена
многобожию и, главное, по отношению к тому моменту, что все эти божества
находились на Олимпе – т. е. занимали некую мифическую территорию, в реальности
которой древние греки нисколечко не сомневались): «Значит, эта ее часть
(часть души, к которой относятся познание и разумение – прим. наше) подобна
божеству, и тот, кто всматривается в нее и познает все божественное – бога
и разум, таким образом лучше всего познает самого себя». Исходя из этой
явно присущей Сократу еретичности по отношению к общепринятому многобожию,
он был осужден в соответствии с главным пунктом выдвинутого против него
обвинения – за «...введение
новых божеств».
<...................>
____________________________________________________________________________________________
|